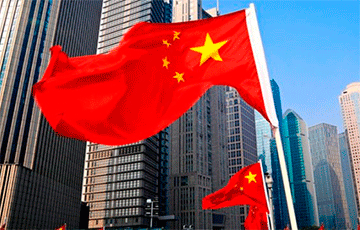Фамилия ему была Небаба

Белорусы всегда сохраняли в себе природное чувство юмора.
Беларусь переживает не лучшие времена, а вместе с ней и большинство белорусов. Но по-разному. У меньшинства все еще имеются большие возможности, которые они стараются использовать с пользой для себя и, как им представляется, для общего блага. Возможности большинства убывают по мере истощения ресурсов, поэтому они часто остаются равнодушными к мероприятиям, проводимым меньшинством время от времени с большой помпой.
Население, погруженное в бытовую текучку, стабильно ожидающее крупных потрясений и мелких неприятностей, будто впадает в состояние анабиоза. До весны, до первой травки, до лебеды с крапивой, до возобновления полноценной социальной и биологической жизни. Поэтому отнюдь не каждое мероприятие, проводимое в стране, привлекает внимание граждан. Иные же, достойные внимания в относительно сытные времена, доходят до сознания граждан с запозданием. По известной пословице: «Пока гром не грянет, мужик не перекреститься». Но будет поздно.
Знаковый культурный объект
Смешно и обидно, и винить некого, кроме себя. Мне часто бывает смешно, поскольку устал обижаться. Например, когда прочитал сообщение о том, что на улице Городской вал состоялось торжественное открытие скульптурной группы «Минский городовой» в присутствии министра внутренних дел Игоря Шуневича, министра культуры Бориса Светлова и председателя столичного горисполкома Андрея Шорца, я посчитал это обычным спамом. Кто-то прикололся. Мол, если на культурных полях СНГ обитает устойчивый эвфемизм-ругательство «японский городовой», то почему в Минске не мог появиться «минский городовой». Причем, ко времени, и к месту. Как советуют специалисты, если кто-то хочет действительно выражаться круто, то лучше использовать замены мата, а не сам мат. Все эти невинные выражения, по мнению составителя «Словаря русского мата» Александра Мешкова, часто звучат покруче мата.
«Минский городовой» на самом деле звучит очень круто. Если этот эвфемизм применять в обращении к белорусской милиции. Тем более, его на жизнь благословил сам министр: «Я считаю, что это очень символичная фигура. Она олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства». У нас ведь так повелось, как министр сказал, так и будет.
С ним согласился и председатель Мингорисполкома (городничий по Гоголю) Андрей Шорец: «Нам очень приятно в канун 100-летия белорусской милиции и 950-летия Минска получить такой культурный объект, который, я уверен, приобретет статус знакового среди жителей и гостей города, станет символом музея МВД и будет украшать столицу». Разумеется, такие проникновенные, можно сказать, интимные откровения не оставили равнодушными чиновников министерства культуры, которое воплотило эту эвфемистическую штучку в бронзу. Оно всецело поддержала концепцию памятника, которую предложил министр Шуневич. По его мнению, городовой получился аутентичным, сделанным по фотографии архивного городового. Все в нем правдиво — медали, номер на фуражке, сама фуражка, погоны разные, поскольку в городовые принимали отставных солдат.
Когда первый милиционер повесил последнего городового
Аутентичная полицейская служебная лирика, которая звучит круче любого эвфемизма. Прочитаем и задумаемся: маленькая беспородная собачка, уютно устроившаяся у ног городового, фонарь над их головами. Одинокие и тусклые фонари в губернском Минске горели, под ними в основном по ночам и служили городовые, эта деталь не вызывает возражений. С собачкой есть сложности. Ведь это обычная городская отважная до глупости Моська, которая готова экипаж городничего облаять и какого-нибудь писарчука за лодыжку цапнуть. Минскую Моську можно сравнить с московской Муму, которая чудесным образом избежала утопления Герасимом и прибежала на огонек к посту городового, который наутро схватит бедную собачонку и доставит на расправу ее хозяйке- барыне.
Такая служба была у городовых. Милиция же началась после того, когда городовых погнали со службы — разоружили, в лучшем случае дали пинка, а кого-то и прикончили у этого тусклого городского фонаря. Если уж и сочинять монументальные символы для белорусской милиции, то уместно было бы изобразить последнего минского городового, которого вешают на фонаре первые минские милиционеры. В этом бы было больше смысла и исторического подхода к делу.
Безусловно, после Мосек и Муму, которые опекались городовыми, на службу в милицию поступили совершенно иные собаки. Всякие Мухтары и верные Русланы, в основном немецкие овчарки. Специально подготовленные. Городовые, по сути, были обычными служивыми, применяемые при любых обстоятельствах, универсальные. Поэтому трудно среди них искать предшественников нынешних очень специфического назначения и специальной подготовки милиционеров. Еще в 1996 году они покрыли себя вечной, несмываемой славой, задержав по ст. 17. 1 КОАП учащегося ПТУ, который нецензурно выражался в публичном месте. Правда, в суде выяснилось, что горемыка был глухонемым, как и тургеневский Герасим.
Городовые, представляется, к таким подвигам не годились.
А Прохоров пьян
С другой стороны, городового можно считать родственником милиционеру. Вот что рассказывал своему приятелю Шуре Балаганову, олицетворявший в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» социально-исторический образ мелкого провинциального жулика Михаил Самуэлевич Паниковский, промышлявший в период перелома эпох — от царской жизни к советской. По его словам, до революции он был богатым человеком. Он, изображая слепого, выходил на Крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал его под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов, если у него были часы, или бумажника. Некоторые, отмечал Паниковский, носили с собой бумажники. Бизнес процветал благодаря «крыше» городового, который стоял на углу Крещатика и Прорезной. Городовой следил, чтоб жулика не обижали. И брал за это 5 рублей в месяц. Хороший был человек, подчеркивал Паниковский: «Фамилия ему была Небаба. Я его недавно встретил. Он теперь музыкальный критик».
Вот такой человек. А с милицией, по словам Михаила Самуэлевича, лучше не связываться: «Не видел я хуже народа! Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры». Надо ценить Паниковского, у него каждая фраза имеет подтекст. В те времена в обиходе термин культуртрегерство применялся в двух смыслах. Культуртрегерами называли империалистов-колонизаторов, участвующих в эксплуатации порабощенных стран, колоний под предлогом насаждения культуры, или носителей культуры, распространения просвещения в народе. Империалисты далеко, а в участок попасть просто. А там такие просветители, что не дай бог.
Такие они эстеты и любят театр. Эстеты городовых любили и любят. Начиная, пожалуй, с Гоголя, с Чехова. Для изображения полицейской службы в уездном городе N Гоголь ограничился минимум персонажей. Частный пристав (начальник полиции) Степан Ильич Уховертов, его подчиненные полицейский Свистунов, Пуговицин, Держиморда и Прохоров. Прохоров не появляется на сцене, его отсутствие объясняется диалогом:
Городничий. А Прохоров пьян?
Частный пристав. Пьян.
Но общественный порядок в городе поддерживается. Полицейские пьянствуют, манкируют службой, занимаются очковтирательством, все берут взятки, следя, чтобы каждый «брал по чину», не церемонятся с городскими обывателями. Так, полицейские безвинно высекли розгами унтер-офицершу: «...Бабы наши на рынке задрались, а полиция подоспела да и схвати меня. Да так меня отрапортовали, что два дня сидеть не могла...». Женщина обратилась с жалобой на городничего к Хлестакову: «...А за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились...». Так уж получилась, не хотела, но заработала, надо заплатить.
Городничий оправдывался перед «петербуржской штучкой»: «... Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься...». Сам Гоголь говорил, что «в «Ревизоре» решился собрать все дурное в России, какое я тогда знал». Но самое интересное в том, что на премьере пьесы присутствовал сам Николай I, который после заявил: «Ну и пьеса! Всем досталось, а мне больше всех». Хотя, разумеется, тогда никто не говорил о социальном государстве, самого императора прозвали Николаем Палкиным, при нем провинившихся солдат так наказывали — на 50 палок и порток не снимали, а 150, 200, 300... насмерть запарывали. Но даже Николая не могла не возмутить история унтер-офицерши.
В наши дни судили минского мещанина книгоиздателя Алеся Логвинца. По свидетельству Александра Ковальчука (омоновца, который задерживал Логвинца), последний нецензурно ругался, на предупреждение не реагировал, будучи посаженный в машину, в наручниках, бился головой о сидение и травмировал себя. Суд согласился с мнением милиционера и виновника осудил. За что? Ответ можно найти в «Ревизоре».
Жди всяких пакостей
В школе изучают Чехова, а его рассказ «Хамелеон» относится к самым хрестоматийным, учебно-назидательным. Помните, через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов. Он видит бегущую собаку, которую догоняет мужик. Мужик (золотых дел мастер Хрюкин) показывает толпе покусанный палец. Очумелов настроен решительно: «Я покажу вам, как собак распускать! Елдырин, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля!». Но потом выясняется, что собака, может быть, принадлежит генералу Жигалову. А, может, и не генералу. Очумелов потеет от сомнений. И заявляет Хрюкину, что тот сам виноват. Но генеральский повар вносит ясность — собака не генеральская. От этого Очумелов форменным образом дуреет: «Я же говорил! Она бродячая! Истребить, вот и все». А повар продолжает: «Это генералова брата». Очумелов опять меняется (хамелеон): «Собачка ничего себе. Шустрая такая... Цап этого за палец!» И все дружно смеются над Хрюкиным. Мол, у полицейского защиту от генеральского пса искал. Очумелов же грозит ему: «Я еще доберусь до тебя».
...К слову, в 1988 году в Киеве на Прорезной улице Паниковскому был поставлен памятник. Полагаю, за предельный реализм жизни отраженный художественным образом. Настолько убедительно, что при виде одного Михаила Самуэлевича каждый мог почувствовать незримое присутствие неподалеку на углу Крещатика и Небабу. А в Минске поставили памятник: может Небабе, может и не Небабе, может надзирателю Очумелову, а может Держиморде. Не в этом суть. Во все времена прохожие меньше опасались мелких жуликов, чем жуликоватых блюстителей порядка.
Правда, белорусы всегда сохраняли в себе природное чувство юмора. Например, в Бобруйске соорудили памятник Шуре Балаганову, который чем-то напоминает каждого из нас. Чуть поманит нас счастье небольшой, но конкретной и весомой суммой, и тут же от нас отворачивается. Свистит в полицейский свисток, надевает наручники, вынуждает наносить себе телесные повреждения, которые завершаются злорадным смехом «городовых».
Константин Скуратович, «Белрынок»
 31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
 31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]