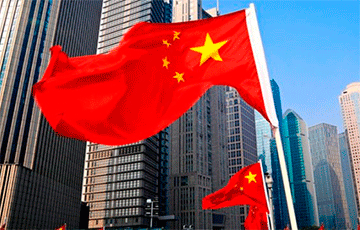«Когда умер Сталин, в лагере плакали. От радости»

История репрессированной немки из Гродно.
Мария Ферле, в замужестве Горошко, прожила 95 лет. По национальности немка, хотя в Германии ни разу не была. Скорее всего ее предки переехали на территорию Беларуси еще во времена Екатерины II. В 1946 году — репрессирована, в 1967-м — реабилитирована. Даже после лагеря и вольного поселения уважала советскую власть, всегда много и ответственно работала. На вопросы родных, почему после Великой Отечественной не сменила отчество, отвечала так: «В память о моем отце Адольфе», пишет tut.by.
Большую часть жизни Мария Адольфовна провела в Гродно. Окна квартиры Горошко выходят во двор. Как-то летом из соседнего подъезда забирали невесту, бабушка очень хотела увидеть свадьбу, торопилась к подоконнику, споткнулась и сломала шейку бедра.
— С переломом она не могла много двигаться и все успевать, — вспоминает внучка Любовь Шайтарова. — Это как-то совсем ее подкосило…
Марии Горошко не стало в 1997 году, но ее история сохранилась.
«Мама умерла, а отец, считавший себя молодым, сбрил бороду и пошел в сваты»

— Она была маленького роста и очень властная, — вспоминает внучка. — Ни одного класса в школе не проучилась, но умела писать по-русски, читала газеты и всегда смотрела «Время». Как это, не понимала, новости пропустить?! Ей же нужно было все знать. А еще она восхищалась Маргарет Тэтчер: вот это, говорила, леди. Мне бы образование, и я была бы не хуже. Она много претерпела, но никогда в ней не чувствовалось озлобленности на жизнь или других людей.
Мы в Гродно, на той самой кухне. На столе перед Любовью Шайтаровой пара десятков черно-белых фотографий.
— Бабушка родилась в 1903 году в деревне Максимовка в Речицком районе Гомельской области, — зачитывает документ внучка. — Что это за место, я не знаю, никогда мы туда не ездили. Только из рассказов помню — это немецкое поселение, где жили лютеране и общались между собой по-немецки. В 11 лет у нее умерла мама, а семья осталась большая — детей 12. Отец, считавший себя молодым, сбрил, как шутила бабушка, бороду и пошел в сваты. Младших ребят растолкал по родственникам, старших отправил работать, а сам женился на другой.

Бабушка попала батрачкой в еврейскую семью, смотрела двоих чужих детей. Когда началась первая мировая, хозяева, чтобы уберечься, переехали в Харьков, нянька — с ними. Тогда она полностью потеряла связь с близкими, позже всю жизнь их искала. Кого-то так и не нашла.
Смотрю на ее снимки, какая же красивая она была в молодости. Я ей как-то говорю: «За тобой, наверное, кавалеров бегало, не счесть». А она: «Может, и не счесть, но замуж выходила за того, кто брал, потому что бедная».
Деда звали Михаил Горошко, познакомились они в Харькове, куда он приехал на какие-то работы. В Гродно у его родителей была своя пекарня, бабушка не скрывала: «Знала, за Мишу пойду, хоть хлеба наемся». В 1922-м они уже втроем вернулись на родину. Почему втроем? Потому что родился маленький Леня — мой дядя. А потом одна за другой появились мама — Вера и тетя Люба.
«Эту работу ей потом долго вспоминали, а то, что в войну в ее подвале пряталась еврейская семья, сразу забыли»

Когда началась Великая Отечественная война, Леня и дед ушли на фронт, а бабушка с девочками остались одни. Гродно быстро оккупировали, и по городу пронеслось, что девушек забирают на работы в Германию. Бабушка тогда побежала в комендатуру и стала по-немецки просить за детей. «О, так вы фрау? — удивился офицер. — Наоборот, вы должны показывать пример». И маму с тетей Любой одними из первых отправили в Германию. Тетя так и не вернулась. Подхватила в бараке тиф, и в 17 лет ее не стало. В честь ее назвали меня.
А бабушку, которая понимала немецкий, за шкирку и вперед в столовую работать. Каждое утро к ней заходил солдат и под конвоем вел на службу, кормить офицеров. Я не понимала: «Как ты могла, это же немцы?» — «А что было делать?» — отвечала она.
Эту работу ей потом долго вспоминали, а то, что в войну в ее подвале пряталась еврейская семья, сразу забыли. Это были какие-то соседи, и она подкармливала их супчиками из той фашистской столовой. Помогала выжить и никуда не гнала. Хотя все понимали, если бы их нашли, и ее, и их расстреляли бы. И никто бы не посмотрел на то, что она немка.
Про те годы бабушка рассказывала немного. Знаю, после войны она работала уборщицей в гостинице. До Великой Отечественной у нее было много друзей, а потом некоторые отвернулись, потому что немка, а немец — враг.
Это был 1946 год, вспоминала она, не важно, какой день… Бабушка как раз пришла с работы, и почти следом мужчина из МГБ (Министерства государственной безопасности. — Прим.). Удивительно, но этого сотрудника она всегда называла хорошим человеком. За что? Он сразу предупредил: «Тебя далеко увезут, бери из вещей, что можешь — пригодится». Все отрезы, платья, которые она тогда собрала, потом меняла на продукты.
— А в чем ее обвиняли?
— Не знаю, знаю, что отправили куда-то в Сибирь. Вспоминала: зубы шатались, волосы вылазили, а она у кого-то выменяла на тряпки бутылку подсолнечного масла и сосала, как мед. Каждый день по ложечке, чтобы хоть какой-то витамин поступал в организм.
— А семью не трогали?
— А кого было трогать?! Дядька в армии отслужил, пришел весь в наградах, дед до 1947-го находился в госпитале, а маму после Германии проверили.

Писем от бабушки долго не приходило. Хотя, вспоминала она, писала много, значит, конверты не доходили.
На воле после лагеря у нее постоянно болела голова, потому что все там застудила. «Ну, а что ты думаешь, — говорила она, — идем пешком до лесоповала, а температура — градусов 40. Там дадут пилы, топоры, и мы должны суки на елках и соснах спиливать. Наработаемся — мокрые, а обратно еще несколько километров пешком. По дороге платок к голове пристывал».
Помню, фильм шел «Долгая дорога в дюнах», там показывали женщину в ссылке. Бабушка злилась: «Посмотри, в каком доме она живет. Да если бы мы в таких условиях жили! У нас был длинный барак, двухъярусные нары и буржуйка в центре… так, воды подогреть».
Холодно, грязно, вши заедают. Каждый день из барака трупы выносили.
Дружбы, как таковой, старались не заводить. И лучше, говорила, было помалкивать, потому что никогда не знаешь, кто, когда и за что может тебя заложить. Принцип существования такой — работай, выживай и, если можешь, делай что-то для себя.
Когда умер Сталин, вспоминала, все плакали. А я ей: «Сталина жалели?» — «Ты что? — еле сдержалась она. — От радости!» Плакали, радовались и боялись. Да, боялись, потому что не знали, что с ними дальше будет. Со Сталиным было страшно, а без него, казалось, еще страшней.
«Мама приехала, еще и ведро картошки привезла»

Но обошлось. В 1950-х бабушку перевели в Казахстан на вольное поселение. Везли, рассказывала, как скотину, в товарных вагонах и сразу устраивали работать в какой-то пимокатный цех, там валенки катали. А потом бабушка научилась шить на машинке и уже строчила фуфайки. Работать всегда очень старалась. Ведь тех, кто ответственно трудится уважают и ценят.
На поселении за работу платили, а она такая — копеечка к копеечке. И смогла накопить на маленький барачек, а потом из него сделала домик, куда позже — после смерти деда — вызвала к себе маму.
— Из Гродно?
— Да, ну а что Вере было в городе делать? Дед умер, брат женился. Она осталась совсем одна. Да и бабушку ослушаться мама не могла. Приехала, еще и ведро картошки привезла.
— Зачем?
— Бабушка ей так приказала. Земля там хорошая, и наша Адольфовна все удивлялась, как на такой земле и картошку никто не выращивает. Она эти семена в рядочки прикопала, а как урожай собрала, делала и продавала пызы. Смеялась, когда первый раз вышла с горшочком к магазину, никто не понимал, что это такое. А когда распробовали, только завидев ее, бежали навстречу.
В Казахстане, вспоминала бабушка, было много ссыльных немцев, но ее все равно тянуло в Беларусь. В 1959-м, когда ей разрешили выехать, они с мамой и уже со мной вернулись в Гродно. Тут были родные люди. И она понимала: здесь есть к кому ехать.
В реальности все оказалось немного по-другому. Квартиру, в которой они когда-то жили, уже заняли новые хозяева, пришлось мотаться по съемным. Бабушка не сдавалась, в какой-то период она работала на трех работах — дворником, сторожем и еще ездила на базар, чтобы то-то продать. Она такая была — коммерсантка. И что вы думаете? Смогла накопить на «однушку».

Вопросами реабилитации занимался дядя Леня. Он был инженер связи и считал для себя важным, чтобы мать реабилитировали. Он искал свидетелей, с которыми она работала в столовой. Они ходили и писали, что и другим в войну приходилось так работать. Время шло, бумаги отсылались, и в 1967-м дядя принес документ из Гродненского областного суда. Бабушка смотрела на этот лист и плакала. И о той жизни больше уже не хотела ни вспоминать, ни рассказывать.
«Она значилась старшей по подъезду, и у нас дома были ключи от всех квартир»

Долго я называла ее мамой. Она такая — кремень, а мама, наоборот, была добрая и мягкая. Все, что я умею, — от бабушки. А она умела почти все. И говорила так: всегда нужно что-то делать! Потому что если не делать, то точно ничего не получится.
Как-то у нас сломался громадный телевизор. Пришел слесарь, снял панель, а она возле него все крутится и крутится. Он не выдержал: «Женщина, что вы мешаете?» А она: «Если бы я знала, что тут всего-то этот проводок нужно припаять, я бы тебя не вызывала». У нас дома были все инструменты. Даже лапа сапожная, она мне сама набойки ставила.
А еще многие знакомые помнят, как она научилась вязать коврики из тряпок. И в доме с нашей «однушкой» с 1-го по 5-й этаж у всех лежали эти коврики. Она вязала и дарила. И значилась старшей по подъезду. У нас были ключи от всех квартир, и когда люди уезжали на дачи или в отпуск, бабушка кормила их рыбок и котов.
В 1978 году я впервые услышала, как она говорит по-немецки. Тогда и осознала, что бабушка немка. Мы как раз ездили к родственникам во Фрунзе. Там была такая братовая — тетя Соня, и бабушка с ней наряжались и все куда-то бегали. Как-то я не выдержала: «Вы куда?»
Оказалось, в городе стоял лютеранский молебный дом, и они ходили туда на молитву. Бабушка была очень счастлива. Радовалась, потому что здесь она могла говорить по-немецки. Они, кстати, там все были в шоке: столько лет прошло, а Мария Адольфовна так хорошо помнит язык.
А я в школе учила английский. Бывало, что-то привезут из Германии, и нужно перевести. Они мне: «Читай». Сама-то по-немецки бабушка знала всего пару букв. Я ей произносила на английский манер, а она переводила.

Что сказать — немка. У нее даже в паспорте, в графе национальность, это было написано.
— Многие стрались скрыть и поменять такую национальность после войны.
— Для бабушки — это память об отце. Я не раз думала, как тяжело ей с этим всем жилось в Союзе после войны, но она не жаловалась. Она была сильная женщина, могла себе позволить придерживаться принципов, которых многие боялись.
В 1990-х ей не раз предлагали уехать в Германию, но она не соглашалась, потому что здесь мы, муж тут похоронен. Она много работала. На пенсии все еще трудилась в охране гродненского кожзавода, а ее фотография висела на доске почета. Для бабушки это было очень важно. Она всегда хотела, чтобы люди ее уважали.
— Вы много о ней помните.
— Мы были близки, из всего, что она рассказывала, я понимала — у нее была тяжелая судьба. У меня нет возможности подарить ей новую жизнь, все, что я могу — сохранить о ней память.
В 2011 году Любовь Шайтарова стала прихожанкой лютеранской кирхи, которая заново открылась в Гродно в 1990-х. Прошлое в семье пересеклось с будущим. Жаль, говорит внучка, что попасть в кирху бабушка так и не успела.
«Чаще всего такие люди проходили по статье «Сношения в контрреволюционных целях ».
Ольга Штокман, руководитель Общественного объединения немецкой культуры «Мосты»:
— Активно появляться на территории Беларуси немцы начали при Екатерине II, которая приглашала иностранных колонистов в Российскую империю. Больше всего на наших землях их было в Гомельской области, а точнее в Наровлянском и Речицком районах.
Жили они колониями-общинами, которые состояли из отдельных хуторских хозяйств. Среди них — Березовка, Антоновка, Красиловка, Осиповка и другие. Название Максимовка мне не встречалось, возможно, это какая-то ошибка.
По вероисповеданию эти люди были лютеране. Им разрешалось строить кирхи, школы, свободно совершать богослужения. Занимались они в основном сельским хозяйством — коневодством, скотоводством, молочным производством. А также обрабатывали большие участки земли.
Немцы-колонисты и их потомки жили на наших землях до начала Великой Отечественной войны, а в 1941 году их стали выселять. Кто-то уехал в Германию, кого-то отправили в эшелонах в Сибирь.
После смерти Сталина они негласно могли вернуться назад.
Игорь Кузнецов, историк:
— В то время существовала система судебных и несудебных органов. Скорее всего дело Марии Горошко разбирало «особое совещание», которое относилось к несудебным. В 1944 году после освобождения начали массово привлекать к уголовной ответственности так называемых немецких пособников.
Чаще всего такие люди проходили по статье 65 УК БССР, в редакции 1928 года. Это «Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями ».
По «особому совещанию» никакой судебной процедуры не проводилось, людей просто отправляли в лагеря.
После смерти Сталина добиться реабилитации таких жителей могли лишь влиятельные лица. Если поднять, сколько людей было реабилитировано по этой статье в 1960—1970 годы, мы найдем единичные случаи. Так что историю Марии Горошко можно считать уникальной.
В 1989 году Горбачев подписал указ о реабилитации граждан, которые были осуждены несудебными органами. Однако с 1994-го в Беларуси вообще такие дела не пересматривались.
 31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
 31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]