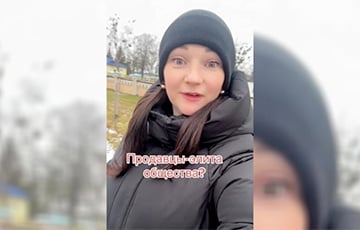«Ельцин заключил сделку с дьяволом, которую потом использовал Путин»

Главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник рассказал о теме России в американских СМИ.
В издательстве Corpus вышла «Могила Ленина» — первая книга журналиста Дэвида Ремника, написанная им в 1993 году и посвященная советской перестройке, во время которой он жил в Москве и работал корреспондентом газеты The Washington Post. За «Могилу Ленина» Ремник получил Пулитцеровскую премию — а через несколько лет стал главным редактором The New Yorker, одного из важнейших журналов в мире. Редактор «Медузы» Александр Горбачев поговорил с Ремником о книге, жизни в Москве в 1980-х и современной России.

Фото: Patrick Lewis / Starpix / REX / Vida Press
— Когда вы приехали в Москву первый раз — какие у вас были ощущения? Трудно себе представить, каково это: в середине 1980-х из Нью-Йорка попасть в советскую реальность.
— Первый раз я приехал туристом — кажется, в 1983-м; Черненко еще был жив. Но вы поймите: когда я учился в университете, меня интересовала не советская политика. Меня интересовала литература. В голове у меня были Толстой и Бродский, а не Андропов и Черненко. И что касается первых впечатлений… Ну, да: когда ты приезжал из разнообразного, шумного, коммерческого, демократичного, безумного Нью-Йорка в Москву, было ощущение, будто ты попал в какую-то странную камеру сенсорной депривации. Помню, очень странно было видеть на магазинах вывески вроде «Продукты». Никакой коммерции, никакой смекалки от ребят с Мэдисон авеню, просто: «Обувь». «Парикмахерская». «Ресторан». Первое впечатление было от этого — а потом ты уже начинал соотносить с реальностью те мифы и знания о двух странах, которые были у тебя в голове. Например — интересно, мою комнату прослушивают?
— Через пять лет вы вернулись уже в качестве журналиста.
— Да, в самом начале 1988-го — первый мой текст был, помню, про реабилитацию Бухарина. Русский я знал в лучшем случае средне — а писать мне сразу надо было про политическую и культурную революцию, которая разворачивалась у меня на глазах. Перестройка и гласность тогда как раз совсем начали съезжать с катушек. Ты каждое утро открывал газету — и обнаруживал там три очень важных переломных момента. Самого разного толка. Ахматову начали печатать. Или — Лигачев и Ельцин ссорятся. Это же тоже было неслыханно. Политические конфликты в СССР никогда не выносились на публику. В общем, просто научиться хорошо делать свою работу — это уже была маленькая внутренняя революция. Я же был очень молод, мне тридцати еще не было. Только женился.
— И ваша жена работала в The New York Times, а вы — в The Washington Post.
— Да. Про это отдельное кино можно было бы снять. Романтическую комедию. У нас были правила: мы не рассказываем друг другу, над чем работаем, до двух часов ночи — в это время наши газеты уходили в печать. Вообще, у The New York Times было блестящее московское бюро: много ресурсов, хорошая организация, замечательные журналисты, включая Билла Келлера, который в 1988 году получил Пулитцеровскую премию. А нас в The Washington Post было всего двое — и мы писали про все 15 республик и 10 часовых поясов. Но я вот что вам скажу: я это обожал. Знаете, не так уж часто в нашей жизни ты просыпаешься утром с четким пониманием того, что ты делаешь что-то по-настоящему важное. Те годы в СССР — это был просто пир для журналиста. Каждый день я работал с девяти утра до двух часов ночи. Я был очарован тем, что творится, повернут на этом — и к тому же постоянно чувствовал оптимизм.
— А Москва 1988 года сильно отличалась от Москвы 1983-го?
— Не слишком. Шли политические изменения, но внешне… Капитализм еще не начался. Разве что появлялись эти маленькие ларечки — сколько вам лет? 33? Ну вы помните: киоски, которые продавали шоколад, газировку и так далее. Это воспринималось как какой-то важный прорыв. А так — заграничных машин на улицах толком не было; те, что были, принадлежали дипломатам, журналистам или бизнесменам, которые еще не появились. Все еще было очень по-советски. Настоящим полем битвы были медиа. «Московская правда», «Огонек», даже «Правда» и «Известия»; а с какого-то момента — и телевизор. И конечно, мы, иностранные журналисты, были главными бенефициарами происходящего. Почитайте книги американских журналистов, работавших в СССР 1960-70-х. Ну сколько у них было источников? Пара человек в Институте США и Канады, Александр Бовин — максимум человек десять. А с нами разговаривали все! Обычные люди, политики, члены ЦК. Они в очередь выстраивались, чтобы дать нам интервью. Просто времени не хватало в сутках, чтобы собрать этот урожай. Это был мир, который открылся нараспашку.
— Вам пришлось как-то приспосабливать свои журналистские методы под советскую реальность?
— Честно? Писать о советской политике во времена Горбачева и Ельцина было проще, чем писать о Белом доме.
— Потому что еще не было правил?
— Именно! Все было совершенно новым. Люди, которые никогда не говорили с журналистами, теперь были готовы это делать. Настоящий прорыв произошел весной 1989 года во время Съезда народных депутатов, когда политика прорвалась на телеэкран. И все сидели дома и смотрели Адамовича, Сахарова, Заславского, Афанасьева. А они спорили с первыми секретарями республик, с людьми из ЦК, с Яковлевым и Горбачевым. Это было невероятно. И конечно, теперь этого больше нет.
Конечно, все было не так уж легко. Гейдар Алиев не приходил на ужин ко мне домой. С другой стороны, я брал у него интервью! И даже первый секретарь Туркмении — он не хотел со мной говорить, но мы встретились на улице. Я пытаюсь вспомнить хоть кого-то, кто вообще отказался говорить. Ну, Каганович, хотя он просто умер. Да и это было эхо большой истории. Но да — он отказывался открывать мне дверь, был в этом небольшой драматизм. А вот внук Сталина со мной поговорил. Как раз тогда я попробовал…. Как называется это ужасное пойло? Какая-то форма самогона… А! Чача! Ух… Ничего сильнее в жизни не пробовал. Ни законного, ни незаконного.
— Москва и Советский Союз в «Могиле Ленина» нередко описаны почти как антиутопия. Мусор валяется на улицах, еды не купить, все плохо выглядят…
— Ну, я надеюсь, что ничего не преувеличил. Понимаете, я приехал в Россию, когда происходили огромные политические преобразования, но экономика была в таком состоянии, что приходилось посылать солдат в регионы копать картошку. Всего не хватало — мяса, лука, спичек. Конечно, люди не умирали от голода, я не хочу сказать, что было как в центральной Африке. И вообще — я был бы смертельно огорчен узнать, что я что-то преувеличил ради литературного эффекта. Я вам скажу: я не русофоб. Наоборот! Мне по-настоящему дорога Россия. Оттуда мои предки и предки моей жены — конечно, они уехали не в самых приятных обстоятельствах, и тем не менее. Я желаю России лучшего. Я не пропагандист. Просто так вышло, что я жил в этой стране, когда в ней существовал невероятный подъем оптимизма. И меня, конечно, он тоже задевал.
— По «Могиле Ленина» кажется, что вам интересны крайности. Ваши герои — те, кто борются с системой (те же Сахаров, Заславский и так далее), и те, кто борются за систему (например, Нина Андреева и другие сталинисты). Тех, кто посередине, как будто нет — и выходит довольно бинарная картина.
— Это легитимное замечание. Но, понимаете, в этой борьбе ведь и была драма — это ведь было очень театральное время. Люди, которым было все равно, для этой драмы были не так важны. Революции обычно не делаются большинством. Да, мне как журналисту яркие персонажи интереснее, чем скучные и равнодушные. И если вы хотите сказать, что я игнорирую огромное молчаливое большинство… Ну, просто эта книга о другом.

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС
— Естественно, это точка зрения человека, который прочитал книгу в 2017 году — двадцать с лишним лет спустя после ее выхода. Но сейчас-то кажется, что именно то молчаливое большинство во многом определило то, что произошло дальше.
— Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, я сейчас сижу в южном Манхэттене и смотрю в окно, и было бы смехотворно, если бы я вам рассказывал о современной российской истории. Но да, я понимаю, что сегодняшняя динамика российской политики совершенно не про открытые конфликты. Мне кажется, что главный страх Путина — это революция как таковая, в любом обличье: будь то Майдан или то, что ему показалось угрозой в 2011 году. Именно тогда он сделал выбор и решил опираться не на городскую интеллигенцию, которая просила больше политических свобод, а как раз на то самое большинство, которое — как минимум с виду — состоит из его сторонников. Отчасти из-за той политики, которую Путин проводит, отчасти из-за того, как он манипулирует информацией, управляет телевидением и так далее. Ну, в конце концов, почему редакция «Медузы» находится в Риге? Не мне вам рассказывать.
— Да, конечно. Я, в конечном счете, про книгу вот что хотел сказать: порой возникает ощущение, что история перестройки и распада СССР в ней представлена в таком черно-белом варианте. И кажется, что российские либералы это видели так же, — и такая позиция во многом предопределила то, как события развивались дальше.
— Это ваше мнение, и я готов его принять. Да, конечно, люди, которых я знал в России лучше всего, были либералами. Без вопросов.
— Сейчас, спустя почти тридцать лет, ваш взгляд на тот исторический период изменился?
— Конечно. Знаете, есть такая история — ее часто пересказывают. В начале 1970-х кто-то спросил Чжоу Энлая, что он думает о французской революции. Тот ответил: об этом слишком рано судить. Неважно, правда это или нет, но смысл ясен: если наш взгляд на то, что произошло в конце XVIII века, постоянно меняется, что уж говорить о событиях 1980-1990-х. Тем более что сама революция — я думаю, что это можно называть революцией — была построена на том, что взгляд на историю изменился. Это как с оттепелью. В чем был главный прорыв хрущевской эпохи? То, что людям позволили иначе смотреть на Сталина и его правление. Горбачев во многом продолжал Хрущева. И когда он разрешил КПСС, советской прессе и советским людям смотреть на свою историю более открыто и критично, это все изменило. Пожалуй, это главный теоретический тезис для моей журналистской книги. Это же как Джон Рид. У него тоже наверняка есть, с чем поспорить.
А что касается новых оценок — ну, возьмите фигуру Ельцина. Моя книга кончается на его триумфе. Лучшем моменте в его карьере. А потом посмотрите на 1996 год. Нельзя не сказать, что те выборы были в какой-то степены украдены. И это позволило куче людей называть демократию «дерьмократией». Я не говорю, что при Зюганове жить было бы лучше. Но это была сделка с дьяволом. Которую потом использовал Путин. Что он делает? Он берет фрагменты правды — про Ельцина, про американскую внешнюю политику и так далее — и использует их, чтобы создать… Я бы не назвал это идеологией, скорее это такой антинарратив. Очень эффективный — особенно когда на его стороне все государственные СМИ.
— Ельцин в 1996 году как раз показал, как можно манипулировать СМИ.
— Да. Но гораздо более примитивно. Что в Путине впечатляет — так это насколько изощренна его версия авторитаризма. Ему не нужен ГУЛАГ, заполненный политическими оппонентами. Достаточно нескольких человек, которые становятся примерами. Ходорковский, Немцов, Старовойтова (Галина Старовойтова была убита в 1998 году — прим. «Медузы»), некоторые журналисты. То же самое с медиа — все гораздо тоньше сделано. Приемы не такие грубые, язык более естественный. Дмитрий Киселев — очень умелый пропагандист.
— Вы серьезно? Он же предельно примитивен.
— Для нас с вами. Потому что у нас с вами есть другие источники информации, слава богу. Но я-то сравниваю не с ними, а с программой «Время» образца 1976 года или с «Правдой» тридцатилетней давности.
— Ваша книга заканчивается в 1991 году — и, в общем, на подъеме: СССР распался, начинаются новые времена, демократия. Когда стало понятно, что все не так просто?
— Да сразу же. Если вы знаете хоть что-нибудь о размере исторического груза России — тысяча лет автократии, 70 с чем-то лет коммунистического тоталитаризма — как можно было подумать, что будет легко? И в Чехословакии-то было нелегко — как могло быть просто в России? А уж к 1993 году возможности эскалации насилия, ограниченность существующих политиков, отсутствие демократических традиций, на которые можно было бы опереться, неэффективность экономики — все это было очевидно. При этом Москва давала посетителям очень много иллюзий — потому что она очень быстро менялась. Разница между 1988 годом и тем, чем стала Тверская через каких-то несколько лет, была совершенно поразительная. К концу 1990-х центр уже выглядел как какой-нибудь Дубай, — я немного преувеличиваю, конечно, но все же.
— В современной России все еще существует спор о том советском наследии, о котором вы говорите. Было ли это плохое общественное устройство или все же…
— Александр, я думаю, что это не просто плохое общественное устройство. Число его жертв было настолько огромным, уровень репрессий таким существенным, сила атаки на свободу слова, религию, политическую оппозицию такой исключительной, что… Давайте не забывать об этом. Я говорю это без всякой американской покровительственности. Я знаю, как мне повезло родиться в моем государстве. Да, у нас есть свои противоречия, лицемерие и так далее — но, во всяком случае, я не родился в той системе. Когда Советский Союз развалился, он так и не смог толком посмотреть в лицо своему прошлому. Был этот дурацкий судебный процесс против КПСС, на который я ходил, но всем было на него плевать. Никакого примирения так и не состоялось. И довольно быстро стало понятно, что одна институция очень хорошо пережила все прошедшие потрясения, — КГБ. И что прошлое продолжило жить — просто в новых формах.
Тогда еще были все эти жалкие попытки создать новую русскую идею. Помните такое? Ельцин собирал какой-нибудь комитет и говорил — ну, езжайте в деревню и придумайте новую национальную идею. Это было очень по-советски, конечно. Естественно, ничего не получилось. На это нужно много времени. История — тяжелая ноша. Иллюзия, что демократия и рыночная экономика могут состояться за один день, быстро исчезла, как утренний туман, у каждого, у кого работает голова.
— То есть в Советском Союзе не было ничего такого, что вам казалось бы нужным сохранить?
— Что бы это могло быть? Ну что? Чем советским вы восхищаетесь?! Я не говорю о людях или искусстве, но с точки зрения политической системы? Нет.
— Ну я как раз об этом. Можно ли говорить о том, что в Советском Союзе был создан некий тип общества, который породил это искусство, — условно, от Тарковского и «Летят журавли» до Бродского, — или они возникли вопреки системе?
— Восхищаюсь ли я теми достижениями, которые случились в России в советское время? Конечно! Я не хотел бы прожить жизнь без музыки и литературы того времени. Но мне трудно поверить, что они были результатом большевизма или сталинизма.
— Давайте перенесемся в современность. Не могу вас не спросить о том, какую роль Россия играет для американских СМИ сегодня. Кажется, что все немного сошли с ума по этому поводу.
— Знаете, для нас о России пишут Маша Гессен и Джошуа Яффа. Они тоже об этом говорят. И я понимаю их осторожность. Они не хотят, чтобы Америка увлеклась теорией заговора, в которой все объясняется одной причиной. Почти все наши проблемы — это проблемы самой Америки. Триумф трампизма, даже временный, — это наша проблема. И все же: я полагаю, что, учитывая все, что мы знаем, наивно думать, что российского вмешательства в выборы не было. Это не теория заговора, это не преувеличение. Есть сюжет, подтвержденный фактами. Когда Владимир Путин пришел к власти, он был более открыт Западу — относительно, конечно, я не хочу сказать, что он был Сахаровым, но тем не менее. Но он изменился. Изменилась его риторика, идеологические установки, окружение в какой-то степени. У него появилась большая обида на Запад и конкретно на США. Особенно она увеличилась, когда начались протесты 2011–2012 годов; он винил во всем этом Америку и Хиллари Клинтон. Путин четко говорил о своем взгляде на вещи. О том, как Америка обманывает, о НАТО, о Балканах, об Ираке; в том, что касается Ирака, кстати, он прав. Знаете, я недавно написал вместе с Джошуа Яффой очень большой текст об этом.
— Я читал, конечно.
— Вот там изложены мои ощущения от происходящего. Мне кажется, это сбалансированный материал. Там говорится: вот есть такая предыстория, вот что мы знаем, вот что мы не знаем, вот что мы должны узнать. Это разумный подход. Конечно, есть элементы антироссийской истерии, но я полагаю, что это ваша ошибка — думать, что американцы сошли с ума, Россия ничего не сделала, они вешают на нас свои проблемы. Это ощущение — «они сошли с ума» — я вижу иногда в текстах ваших современников. Но это уже ваша иллюзия.

— В том материале, о которым вы говорите, меня резанула одна вещь — мне кажется, показательная. Там источником знания о том, как мыслит Путин, выступает Евгения Альбац. При всем уважении — откуда у нее такая экспертиза?
— Давайте, во-первых, напомним друг другу, что Женя Альбац оказалась права по поводу многих вещей, о которых она говорила много лет и люди ей не верили. Нужно отдать ей должное. Я не всегда с ней согласен, но она очень смелый человек. Во-вторых: конечно, самые загадочные квадратные сантиметры во всей России находятся внутри головы Путина. Это такой черный ящик. Никто не пытается сделать вид, что мы читаем мысли. Когда мы задаем кому-то вопросы такого рода, понятно, что это их догадки, основанные на знаниях. Это само собой разумеется. И я, честно говоря, не думаю, что есть серьезная разница между тем, что об этом думает Альбац или какой-нибудь второстепенный кремлевский чиновник.
— Сейчас ведь американским журналистам куда труднее работать в России, чем во время перестройки.
— Конечно. Гораздо сложнее говорить с чиновниками — особенно высшего звена. Когда в последний раз Игорь Сечин давал интервью? И мы можем назвать еще двадцать имен такого рода. Разумеется, я тоже не мог получить интервью в Кремле в любую секунду. Но было куда легче. Даже люди нелиберальных взглядов говорили со мной очень честно. Лигачев, Иван Полозков — был такой лидер коммунистов. Крючков, Хасбулатов… Люди, которых трудно заподозрить в том, что они возвращаются домой с работы и включают «Аквариум».
— Вся эта фантасмагория вокруг влияния Путина в Штатах — вам не кажется, что он этого и добивался?
— Слушайте, ну вы же сами только что критиковали, что Альбац что-то рассказывает о желаниях Путина. И сами туда же. Я не знаю, чего он хочет. Я слышу, что он говорит, и вижу, как он себя ведет. И он очень четко транслирует обиду. Его риторика целиком на этом основана.
— Но ведь это обида на то, что его и Россию не считают равными.
— Да, конечно. Он терпеть не мог, когда Обама называл Россию региональной державой.
— Теперь не называют.
— Да. Ну, мазл тов. Замечательно. Весь мир — это сплошной конфликт и путаница. Ох, ну если это его представление о том, как хорошо провести время… Мы живем в очень печальную эпоху, вам не кажется? Если вернуться к книге — я вижу огромный контраст между тем пусть осторожным, но оптимизмом, который у меня тогда был, и тем, что сейчас. И дело не только в том, что я был куда моложе. Количество демократий в мире росло взрывными темпами. А теперь оно сокращается. А я — демократ. При всех понятных осложнениях и оговорках я верю в демократический выбор, свободу слова, свободу собраний и так далее. Сейчас эти ценности терпят поражение. Владимир Путин — не единственный человек, которого надо за это благодарить. Но он довольно высоко в этом списке. И тот факт, что президент моей страны хвалит его и ценит силу больше, чем демократические ценности, мне кажется чрезвычайной ситуацией.
— Разве он не перестал хвалить Путина после того, как его выбрали?
— Нет. Позвоните мне, когда Трамп всерьез поругает Путина. Или лидеров Турции, или Филиппин. Это очень удручает. У него куда больше претензий к Ангеле Меркель, чем к Эрдогану — и это еще один кусочек паззла в общей трагедии.
— Не хотелось бы заканчивать разговор так грустно…
— Я вам вот что скажу. Эта книга — журналистская работа. Я написал ее за год после распада СССР. Я продолжаю регулярно ездить в Россию. Я люблю встречаться со своими тамошними друзьями, люблю смотреть, как растут их дети и внуки. Это место очень много значит для меня. Мною движет не русофобия — совсем наоборот. Я много времени потратил, чтобы понять Россию, — хотя, конечно, никогда не смогу этого сделать: настолько это огромное и сложное место. Когда я работал в России, я делал это с надеждой и любовью. И я всегда больше всего боялся — как по-русски cranberry? Да, клюквы. Дурацких ошибок, которые люди совершают по незнанию, просто потому что они иностранцы. К счастью, мои друзья, читавшие книгу, спасли меня от этого. Клюква — очень горькая ягода.
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]