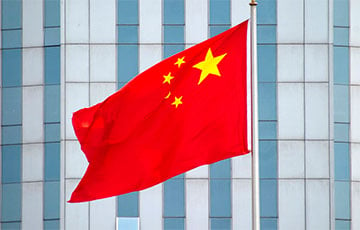Историк литературы Наталья Громова: Агентура — это и есть нерв системы

Как органы госбезопасности РФ возрождают традицию зачистки кружков и салонов.
Дело о создании экстремистского сообщества «Новое величие», участников которого, как пишет Илья Яшин, «технично подвели под уголовку за разговоры в кафе», раскручивается на наших глазах. По цинизму и жестокости эта провокация силовиков напоминает те, посредством которых в 30-е годы уничтожались кружки и сообщества, назначенные чекистами во «враги народа». О том, что страшило власти тогда и волнует сейчас, «Новая газета» говорит с историком литературы, автором популярных книг о жизни русских писателей. Архивные материалы, лежащие в их основе, помогают не только узнать наше прошлое, но и заглянуть в наше будущее.
— Ваша новая книга «Дело Бронникова» могла бы быть очередным интересным историческим исследованием, а стала актуальным высказыванием. Те, кто сегодня стремится к сопротивлению, к освобождению от жестких рамок, как и ваши герои, вытесненные на обочину постреволюционной жизни, тоже ищут свой круг, сплачиваются в сообщества, кружки, секты. Не хочется проводить параллели, но важно понять, чего так страшились те, кто планомерно уничтожал самые, казалось бы, безобидные из них. Как и почему вы вышли на эту тему?
— Это было пятитомное дело, которое очень хотела сделать книгой начиная с 90-х годов — к сожалению, уже покойная Полина Вахтина. Мы начали работу над книгой вместе, а потом к ней присоединилась Татьяна Позднякова из Ахматовского музея, которая нашла дополнительные материалы из Ленинградского ФСБ. Дело ленинградского ОГПУ называлось «О контрреволюционных организациях фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов», или «дело Бронникова».
— Уже в 1932 году шьют фашистский заговор?
— Да, нас это тоже всех поразило. Но фашизм для чекистов такая абракадабра, которой они обозначают все то, что им кажется опасным.
На страницах «Дела Бронникова» около ста имен, но по обвинительному заключению проходили двадцать три человека. Каждый из них был участником небольших неформальных объединений. Следователи выбрали на роль главного организатора Михаила Бронникова, который действительно создал в конце 1920-х годов в Ленинграде восемь кружков, где молодые люди изучали современное искусство и делились своими литературными опытами.
— Что испугало власти в этих безобидных занятиях?
— «Дело Бронникова» вполне вписывалось в политику по разгрому интеллигенции. 1921-й год — «дело Таганцева», 1925-й — «дело лицеистов». Обвинительное заключение инкриминировало участникам «Дела Бронникова» пропаганду фашистской идеологии и монархизма, культивирование традиций дворянской знати, шпионскую деятельность в интересах империалистических государств.
Как и сейчас, в борьбе с любыми проявлениями человеческой свободы и независимости ключевыми словами были: иностранцы, тайные организации, вражеская интеллигенция, философия, литература, религия.
— Вы хотели восстановить имена репрессированных или исследовать такое явление, как кружки и салоны?
— Среди обвиняемых по «делу Бронникова» встречаются имена известные, но от многих не осталось ни строчки. Пропали их сочинения, статьи, стихи, письма. Словно и не было их на свете. Поэтому моей задачей было перевести мертвый язык следственных протоколов, допросов, признаний и обвинительного заключения в документальное повествование о людях, большинство которых исчезло и из культуры, и из памяти.
— Можно ли извлечь из лживых документов правдивый образ живых людей?
— Например, из дела можно почерпнуть информацию о том, что М.Д. Бронников — автор сценария «Цирк», о жандармском генерале, вынужденном в эмиграции стать клоуном; сценариев «Женщина-стрелок», «Вор», «Ангина», «Портнихи», «Прачки», что он переводил Эредиа, Жамма и Кокто, что готовил к печати исследования о немецкой киноактрисе Элизабет Бергнер и американском кинорежиссере Эрике фон Штрогейме, что у него есть собственный рукописный поэтический сборник и сборник рассказов «Пять снов», книги о Марселе Прусте и Мэри Пикфорд.
— Теперь я понимаю, почему в одном из протоколов допроса подследственный сообщает, что Бронников читал лекции о Прусте.
— Надо сказать, что эти тома следственных дел — иногда очень неприятное чтение. Такое же ощущение я испытала, когда читала допросы декабристов, выкладывавших все начистоту, за исключением Лунина и еще двух человек. И здесь только известный переводчик Михаил Лозинский и литературовед Николай Шульговский с безукоризненным достоинством не признали своей вины, большинство же в растерянности и смятении давали добровольные «признания», были и такие, кто торопился как можно больше сообщить о «преступлениях» своих друзей. Правда, не на первом допросе, а на втором, третьем. Бронников единственный, кто берет вину на себя, говорит, что это он все создал.
— Он признавал свою вину?
— Да, он говорил, что был неправ.
Парадокс в том, что они не хотели противостоять советской власти, они хотели придумать параллельное существование.
Советская власть живет в своей плоскости, а мы — в абсолютно аполитичном пространстве. Был такой человек, Алексей Крюков, — в роду князья, бабушка танцевала с царем, — он написал поэму «Актябрь», чтобы показать: есть октябрь большевиков, а есть актябрь через «а» — это то, во что превратилась жизнь людей, не принявших советскую власть.
— Они в своих убежищах надеялись дождаться падения советской власти?
— Они, конечно, выжидали, но все они были молоды, веселы, искали свой круг, свою среду. И находили, создавая и культурные, и религиозные секты, поскольку потребность объяснения с религиозной точки зрения того, что произошло, оставалась. Люди не могли смириться с тем, что великая культура взяла и лопнула.
— Почему секты, ведь это сомнительная замена для верующего человека?
— Традиционное православие стало советским, прославляющим дела новой власти, что вызывало ужасное отторжение у верующих. Плодились розенкрейцеры, мистики, оккультисты. Г.Ю. Бруни на допросах рассказывал нечто поразительное:
«Мы вызывали духов, причем эти духи очень часто говорили всякие антисоветские вещи, вроде того что дух Ленина в загробном мире кается в совершенных им на земле грехах».

— Понятна ли чекистская логика, по которой из кружков выдергивали людей?
— Это большая загадка. Например, «девица Макарова» — никто иная, как будущая знаменитая актриса Тамара Макарова и жена советского режиссера Сергея Герасимова, — избежала ареста, а вопрос, почему была арестована Т.Э. Петкевич-Пильц, чье имя не встречается ни в одном протоколе допроса, до сих пор остается без ответа.
Я вот все время думала, почему они так быстро стали всюду искать подполье. И поняла, что они часто проецировали на новую действительность недавнюю жизнь, в которой в подполье действовали большевики. Они как бы искали свою большевистскую партию, приведшую их к победе. И боялись победы нового подполья. Для Сталина это было очень удобно, потому что он снимал псевдодворянские, псевдобуржуазные слои культурных людей, которые могли если не сопротивляться, то быть во внутренней оппозиции. В них было вложено как проекция, что они когда-нибудь точно станут врагами.
— Почему вы говорите псевдодворянские, псевдобуржуазные, когда они и были дворянскими и буржуазными?
— Нет, они могли быть дворянского происхождения, но открестились от него, работали на заводах, хотели приносить пользу народу, раз народ принял такой путь. Активного сопротивления уже в начале 30-х годов не было. Смысл секретного доклада ОГПУ «Об антисоветской деятельности среди интеллигенции за 1931 год» сводился к тому, что вылавливать теперь надо было тех, кто пытался встроиться в советскую жизнь, стараясь никак не проявлять себя на службе или в общественной жизни, сохранял свое личное независимое пространство, собираясь в литературные, переводческие или эзотерические кружки. Никаких «своих кругов» больше не должно было существовать. После этого доклада судьба кружковцев была окончательно определена.
— По протоколам нельзя выяснить, как именно на них давили?
— Нет, в протокол вносится исключительно ответ допрашиваемого. А то, что нес при этом следователь, можно узнать лишь из мемуаров и дневников. Вот мой персонаж, следователь Бузников, который вел дело Бронникова и брал Иванова-Разумника, человека, знаменитого еще и тем, что ему удалось уйти с немцами в 1942 году и написать мемуары. Он рассказывает, как следователи на допросе уличают его в том, что он проводник буржуазной идеологии. Он говорит: «Да, я старый народник, ребята, давайте поговорим про Маркса». О подлинных сочинениях Маркса они понятия не имеют, впрочем, как и о многом другом. Интересно, что Бузников в 1954 году или в 1953-м стал учителем интерната для бывших беспризорников, и в архивах Минобразования оказалась его анкета. Везде, где надо было написать, что служил в НКВД, написано — служил в армии. Это ход, с которым я постоянно сталкиваюсь. Копаясь в его деле, мы выяснили, что отец его был титулярным советником, жил он в центре города в прекрасной квартире, то есть где-то на вершинах жизни, поэтому он хочет оставаться на них и при новой власти, ему все равно какой.
— Про пытки еще речь не идет?
— Нет. Эти вульгарные марксисты в 1932 году действовали только шантажом, давлением на близких, они еще никого не мучили. Сначала дело ограничивалось в основном ссылкой, многие уже потом получили по второму делу. В 1937 году дается разрешение на физическое применение силы. В начале 30-х еще давали книжки, были прогулки, но испуг от этого меньше не становился.
— Но Горькому на Соловках уже в 1929 году рассказали о кошмарах, которые там творились.
— Он отмахнулся от этого, ему легче было поддерживать идею власти о перековке, поскольку этой машине нужно было новое и новое топливо. А с другой стороны, сталинская бюрократия стала создавать нового серого «человека без свойств».
— С их точки зрения — умная инициатива, без этого им было не выжить.
— Мне кажется, главный креативщик — это Троцкий. Идея использования и перелицовки старой культуры принадлежит ему. У него в статье «Интеллигенция и революция» уже говорится о том, что не надо выращивать пролетарских писателей, надо перековать в советских уже имеющихся.
— Троцкий знал силу слова, был прекрасным оратором и переговорил всех соперников на пути к власти.
— И он, и Ленин были людьми словесной культуры. Почему они первым делом уничтожают старые газеты? Потому что сами взошли на «Искре» и «Правде», и поэтому панически боялись печатного слова. Сталин всегда прибирал к рукам все умное, что эти люди придумывали.
— Среди того, что извлекается из чекистских, гэбэшных архивов много ли талантливого?
— Они очень разные, эти тексты. Меня, например, поразили «Две короны ночи» Бронникова. Персонажи — это такие маргиналы, не принятые властью, которые ходят по каким-то подпольным публичным домам, где, кстати, чекисты друг с другом встречаются, у них там специальные агентурные проститутки. Малознакомый нам полунэпмановский мир выписан мазками жесткими, неприятными, иногда натуралистическими. Но ты понимаешь, что уже тогда существовал целый пласт странной, параллельной, западного толка литературы.
Эти ребята знали западные лекала, добывали из-за границы книги, фильмы, был даже кружок, где из фотографий делали кино, «Гейм-клуб» назывался.
— Но интригующие всех «Странники ночи» Даниила Андреева где-то лежат, значит, есть надежда когда-нибудь обнародовать нечто важное?
— Какие-то чудеса должны произойти, ведь чекисты снимали сливки. Но, к несчастью, когда дело было отработано, архивы уничтожили. Верить в это не хочется, остается надеяться, что что-то там есть.
— Прошлое формирует настоящее — стоит ли удивляться, что наша жизнь мало меняется к лучшему?
— В этом-то и драма. Надрыв и боль нынешнего существования зиждется на том, что прошлого за плечами нет почти ни у кого, ткань той жизни изорвана в клочья. Значит, задачей целого ряда поколений будет сшивание этой ткани прошлого для того, чтобы спастись, чтобы не родить следующее поколение больных детей. Сколько я видела ситуаций, когда дети, как только заговаривают о прошлом, вспоминают страхи своих родителей, своих бабушек. Страх переходит от одного поколения к другому, оставаясь из самых сильных свойств нашего человека.
— Сейчас многие пытаются отыскать свои корни, преодолеть чувство безродности, в котором пребывали долгие годы.
— Еще страшнее было узнать про своих родственников нечто нелицеприятное — этот молчал, тот обманывал, этот крутил… Большинство старалось просто забыть, стереть свое прошлое.
— И даже то, что ты мог узнать о предках, узурпировано чекистами.
— То, что лежит в их архивах, и есть матрица нашей общей памяти. Они сидят на них, как орлы, никого не подпуская, а ведь отсутствие общей памяти обескровливает народ.
— И в этой больной крови, кроме страха, плодятся бациллы доносительства, занесенные в те страшные годы.
— Я сейчас написала про дело Сергея Александровича Ермолинского, близкого друга Булгакова. Понятно, что за Булгаковым всегда присматривали, и вот уже после смерти Ермолинского пошел слух, что он был чуть ли не стукачом. Он писал в мемуарах, что от него требовали подтвердить, что Булгаков создавал у себя антисоветские салоны. Ему сказали: «Слушай, ну он помер, чего тебе стоит?» Он был хлипкий интеллигент, ему выбили все зубы, мучили страшно, но он не подтвердил. Я изучила следственные дела, которые это доказывают. Я поняла страшную вещь. Реальные осведомители, чтобы отвести взгляд от себя, замазывали невиновного, а сообщество, готовое клеймить все на свете, это подхватывало и распространяло. И это уже не первая моя история такого рода.

— Как сейчас можно проникнуть в архив ФСБ?
— Во все нормальные архивы берешь отношение и идешь. В этот пускают только родственников, наследников. Но даже им не увидеть главное — основания, по которым человек сел, они будут в заклеенных конвертах.
— Чего боятся фээсбэшники?
— Засветить своих агентов. Я поняла, что агентура — это и есть нерв системы. Никакой агент не будет работать, если сдали предыдущих. Меня все время вот что удивляло: их абсолютно не смущали, допустим, в дневниках Берггольц антисоветские высказывания. Но касаться имен нельзя было ни под каким видом.
— И сейчас то же самое происходит?
— Современную систему мы не можем оценить, но думаю, за тобой начинают присматривать, когда охват аудитории, например, в твоем фейсбуке превышает обычный.
— Существование в фейсбуке — это тоже в своем роде кружки по интересам.
— Именно. И некая замена ведению дневника.
— Только раньше их вели, чтобы упрятать от чужих глаз сокровенное, теперь с расчетом на аудиторию.
— Есть люди, которые рождаются с острым переживанием утекающего времени, с желанием запечатлеть его хотя бы на странице. В этом смысле поразительны дневники Ольги Берггольц. Ее дневники — безоглядная и беспощадная попытка понять свой путь. Честная по природе, она пытается преодолеть пропасть между верой в советскую идею и открывшейся ей после тюрьмы, куда она попала по «делу кировских писателей», страшной действительностью.
— Но кроме этого — наветы на ее оппонентов, романы, ревность, пьянство, ужас блокадных дней…
— Она сделала дневники своей Главной книгой, из которой видно, как мучительно она преодолевала в себе свое время. Она в дневниках объясняет себе такие вещи, которые вообще нормальный человек не может объяснить.
Не зря на них велась охота, она их закапывала в 1941 году, прибивала гвоздями к оборотной стороне скамейки во времена «ленинградского дела»… Сергей Михалков, просмотрев их, написал, что они никогда не должны быть открыты, поскольку позорят имя советского поэта.
— Она была первой, кто выступил в Союзе писателей после хрущевского доклада с предложением отменить постановление об Ахматовой и Зощенко?
— Да, она говорит, что всем надо покаяться, говорит: «Смерть Фадеева на нашей совести, он ушел, потому что не мог покаяться». А когда ей грозят исключить из партии, она начинает каяться перед партией. Я все думаю, почему? Она ведь писала письма Шаламову, Солженицыну, дело о реабилитации своего мужа Бориса Корнилова прошла от начала до конца. Думаю, чтобы стать человеком, равным этим людям, ей надо было отказаться от советского в себе. А что для нее это значило? Что она от мечты отказывается. Для нее ведь не Сталин был важен, а мечта о социализме, ради которой люди отдавали жизнь. Значит, она предаст их всех? Она не могла этого сделать.
Она всю жизнь ломалась, а тут разламывается окончательно. Она все время пишет про то, что должна написать главную книгу, в которой будет про все поруганное, страшное, что она увидела в тюрьме. Она выходит из нее в тяжелейшей депрессии, но уже человеком, который обращается к будущим поколениям, пытаясь объяснить, что с ними было на самом деле, понимая: все, что сейчас говорится, — ложь. Главная идея, которую она пронесла, — это идея сохранения памяти.
У нее есть удивительное стихотворение «Благое молчание» — об ангеле, дважды ее спасшем. Вероятно, имеется в виду тюрьма и блокада. Дважды для чего? Для того чтобы хранить память. Она потом напишет: «Не забуду тебя, Иерусалим», — то есть всех, кто погиб в блокадном Ленинграде. В блокадном Ленинграде она превращается в человека, способного поднять дух жителей города. Она искупила ту ложь, про которую писала: «Я блевала этой ложью». Но идеалы, на которых советская власть пришла, она не могла из себя вырвать. Копелев сумел, Солженицын перешагнул, и они смогли существовать дальше. А она — нет. И в этом катастрофичность ее судьбы.
— И я бы сказала — предостережение всем тем, кто сейчас строит жизнь на разоблаченных историей идеях.
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]