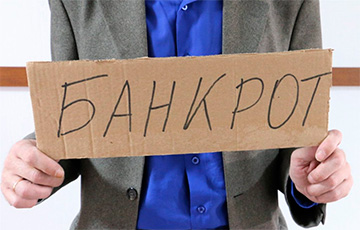Памяти волка

Тому Вульфу удалось невозможное.
При наличии в американской прозе другого Томаса Вульфа, великого прозаика, чья избыточная проза не лезет ни в какие рамки и увядает от редакторского прикосновения, он утвердил собственное литературное имя и если не затмил предшественника, то по крайней мере стал с ним вровень. Иное дело, что применительно к Тому Вульфу вспоминают чаще всего белые пиджаки, термин «новый журнализм» и названия его первых, далеко не лучших книг — скажем, «Электропрохладительный кислотный тест», — но это издержки любой славы.
Между тем «новый журнализм» — явление несколько более серьезное, чем принято думать: это не литературная мода, не рекламный ярлык, даже не знак эпохи, но одна из серьезнейших вех на пути литературной эволюции вообще. Вульфу повезло придумать термин и написать несколько книг в этом роде, прочно ассоциировав экспансию non-fiction с собственным именем и сделав несколько ярких, часто цитируемых заявлений — вроде того, что роман летит под откос.
Но тенденция, стоявшая за всей этой мишурой, — серьезная и до сих пор никем толком не осмысленная; дело обстоит несколько мрачнее или по крайней мере радикальней, чем принято полагать. В начале шестидесятых крупнейшие американские прозаики либо замолчали, как Сэлинджер, либо пережили глубокий кризис, как Хеллер, либо покончили с собой, как Хемингуэй, либо умерли, как Фолкнер, либо ушли в откровенный беллетризм, как Апдайк. Самые умные и живучие, как Капоте, как раз и ушли в новый журнализм, который начался в Штатах именно с романа «Хладнокровное убийство» (In Cool Blood), хотя термин придумали другие. Капоте вообще не силен был в придумывании терминов — он писал, а другие интерпретировали и подражали.
Проблема состояла в том, что реалистическая проза — явление по сути компромиссное — не то что перестала существовать (это ее угасание мы наблюдаем сейчас), но именно обнаружила свою компромиссность. Стало ясно, что описывать вымышленных героев в реальных обстоятельствах не так интересно и, главное, не совсем честно. Возникает непреодолимая погрешность, мешающая рассмотреть реальность как она есть. Литература не может больше отделаться паллиативами и должна стать либо окончательной и бесповоротной сказкой, каковой она и была изначально, либо документальным свидетельством, почти репортажем. Тогда она будет и развлекать, и разоблачать.
Была у этого кризиса и еще одна подспудная причина, появившаяся в конце 80-х гг. XIX столетия, когда, собственно, новый журнализм впервые заявил о себе; Родина его на самом деле Россия, она вообще почти все сделала первой, но относится к себе настолько наплевательски, что либо не замечает этого первенства, либо гордится бедами больше, чем достижениями. Основоположником нового журнализма был Короленко, автор «Мултанского дела», «Сорочинского дела», «Дома №13», «Бытового явления», «Дела Бейлиса» и других выдающихся документальных расследований. Короленко, по мнению современников (оно иногда бывает справедливо), как беллетрист был и многословен, и слезлив, но стоило ему заняться документальной прозой — откуда только брался этот холодный блеск, разящая ирония, чутье на детали! Короленко словно стеснялся придумывать, но когда все уже придумала сама жизнь — равных ему не было.
Новый журнализм — это не просто использование приемов журналистики в литературном тексте, не просто документальная основа, но следствие столкновения писателя с непривычной ситуацией, в которой психологизм бессилен. Нельзя поставить себя на место крестьян, которые после убийства Конона Матюнина обвинили во всем мултанских вотяков и, движимые звериной ксенофобией, стали гнать их с насиженных мест. И на место погромщиков поставить себя нельзя: психология тут бессильна, человеческая природа глубже, страшней и животней, чем представлялось гуманистам эпохи Просвещения. (Просвещение и его идеология укоренились в России особенно глубоко, может быть, потому что потребность в просветительстве тут была одной из самых насущных.) Короленко первым столкнулся с фашизмом, а в понимании психологии фашизма мы с тех пор не продвинулись дальше, несмотря на все усилия Арендт и Фромма, Фрейда и Франкла; вообще «есть многое на свете, друг Горацио...»
Новый журнализм — это литература, отказавшаяся от претензии понять и изобразить некоторые движения души; в сущности, реализм низачем не нужен, если нет в нем психологии, то есть попытки понять. В конце XIX века стало ясно: есть вещи, которые понять невозможно, или для них требуется уже не писательский, а психиатрический опыт. Есть вещи, которые можно только описать. Например, Кишиневский погром. Короленко это понял — и отказался от попыток беллетристически описать происходящее, хотя, казалось бы, какой материал! Так в России появились прообразы будущих романов Капоте и Вульфа, где все приметы жанра уже наличествуют, и главная из них — смирение. Есть вещи, для описания которых годится только холодный язык фактов. Вот почему главные шедевры нового журнализма — описания преступлений («Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида — не исключение).
Это и упомянутый роман Капоте об убийстве Клаттеров, и «Песнь палача» Нормана Мейлера, и The Tarnished Eye Джудит Гест (о непостижимом и бессмысленном убийстве семьи Робисонов). Том Вульф всего лишь заявил вслух, что у серьезной прозы есть два пути: либо превратиться в фэнтези (и экспансия фэнтези произошла одновременно с провозглашением эры non-fiction), либо обратиться в честное документальное расследование. И он дал замечательные образцы этого расследования: описание калифорнийской контркультуры и наркотических увлечений Кена Кизи, например, в знаменитом «Тесте», или огромный социальный роман о жизни мегаполиса «Костры амбиций», с его строго документальной основой и далеко уводящими обобщениями.
Как раз Вульф — не самый яркий представитель жанра (Мейлер уж всяко лучше, да и тюремные очерки Стайрона, недавно объединенные в раздел его публицистической посмертной книги My Generation, сильней написаны и больше повлияли на американскую правозащиту). Случай Вульфа как раз наглядно доказывает, что наилучших результатов достигает писатель, пошедший в журналистику, а не журналист, порывающийся стать писателем. Известно, что Вульф всю жизнь мечтал о писательстве, а журналистикой занялся лишь потому, что это был, как ему представлялось, кратчайший путь в профессию, причем как раз с того входа, на котором было меньше всего конкуренции. Это справедливо: Драйзер тоже так полагал — и именно как репортер вошел в большую прозу.
Прозаиками хотят быть все, а журналистами — почти никто; при этом писателю профессионализм необязателен (или, по крайней мере, трудно сформулировать, что это такое), а журналисту он заменяет все, иногда даже талант. И тем не менее писательский талант — совсем другое дело, что и подтвердила проза Вульфа, не особенно успешная: ему в самом деле не давалась психологическая прорисовка героев, они были плоскими, как газетный лист, и ровно настолько убедительными, чтобы забыть о них на следующий день. Одно дело, когда писатель сознательно удерживается от психологизма, потому что он в конкретной истории неуместен, и совсем другое, когда он этого просто не умеет. «Тест» — замечательное описание самого Кизи и его коммуны, но как этот человек мог написать свои романы, Вульф не объясняет, да и не берется. И даже «Костры амбиций» с их замечательным портретом современного города, где каждый проживает не свою жизнь, потому что с какого-то момента не способен ее контролировать, лишь очень хорошая социология, но не та литература, которая потрясает сердца. Вульф был — и до конца своей 88-летней жизни оставался — королем репортажа, и хороший репортаж вполне может быть литературой, что опять-таки доказали наши Гиляровский и Дорошевич. Но для настоящей литературы нужно писательское устройство души, а у Вульфа оно было репортерское, в силу чего он и был так чуток к главным тенденциям момента; никто не замечал того, что видел он, а он, хоть и не всегда был способен осмыслить, зато всегда мог заметить. И это тоже высокое искусство.
Вульф первым добился массовой уверенности в том, что грань между журналистикой и литературой едва различима, а может быть, даже иллюзорна; он первым сделал репортаж фактом настоящей литературы, хотя сыграли роль тут не только писательские способности, но и пиаровские стратегии. Главное же — он первым зафиксировал то, что путь литературы теперь с неизбежностью раздваивается: либо она уйдет в праздничный и безответственный вымысел, либо научится у журналистики строгому и беспристрастному исследованию жизни как она есть. Это ему мы обязаны биографическим бумом и потоку журналистских книг об олигархии, перестройке или великих нераскрытых тайнах. Это он доказал, что умение взять интервью подчас важнее умения написать пейзаж или проникнуть в тайны чужой психологии. Это он напомнил литераторам о важности профессиональных навыков — и вознес на новую высоту чернорабочих литературы, журналистов, интервьюеров, расследователей, собирающих материал для грядущего шедевра.
Грядущих шедевров это все равно не отменит, а журналистам приятно. В конце концов, все самое читаемое в последние два века написали они.
Дмитрий Быков, «Сноб»
 21.02.2025
Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком
21.02.2025
Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком
 21.02.2025
В Беларуси изменили возраст люксовых авто, за которые надо платить налох в 10-кратном размере
21.02.2025
В Беларуси изменили возраст люксовых авто, за которые надо платить налох в 10-кратном размере
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр info@moyby.com