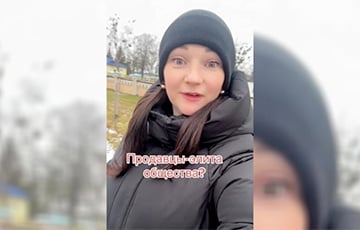Жители Сибири: Куда подевалась Россия?

Российское население за Уралом резко сокращается.
По данным Росстата, убыль населения Омской области за прошлый год составила 12102 человека. Это самый высокий показатель отрицательной миграции среди всех 85 регионов страны. Причины, по которым люди покидают миллионный Омск, очевидны: безработица, низкая зарплата, слабо развитая инфраструктура, дорогое жилье и проблемы с экологией. Но еще стремительнее пустеют отдаленные районы края. Абсолютным лидером по количеству заброшенных деревень в регионе является один из самых дальних, таежный Седельниковский район, где ежегодно исчезают по 1-2 деревне, пишет "Сибирь. Реалии".
"Как не было нас"
Перед деревней Лилейка – покосившая бетонная стела: "Добро пожаловать в колхоз имени 20 Партсъезда".
– Это мы еще в 80-х устанавливали, – рассказывает Федор Кальк, заместитель главы Седельниковского района. – С другой стороны было написано, сколько человек колхоз поит молоком, кормит мясом. Один из лучших в районе был, на эстонской ферме работали доярки – рекордсменки из Лилейки и Эстонки – по три тонны молока в год надаивали. К началу 90-х планировалось, что весь колхоз станет "трехтысячным". Не успели – Союз развалился.
Эстонцы прибыли на край Омской области, почти к самым Васюганским болотам, в конце 19 века, еще до столыпинской реформы – здесь было много земель, леса, речушек: Уй, Шиш, Шайтанка. Селились кучно: Короленка, Лилейка, Черноярка, Эстонка, Васильевка, Баклянка. Исчезать в начале 21 века стали быстро. Из Эстонки последний житель уехал три года назад. Дома еще стоят: строили основательно. В домах – брошенный скарб: сгнившие кресла, объеденные мышами шкафы. Будто все жители собрались в один момент, забили окна крест-накрест досками и пошли искать лучшей доли. В 2014-м в довершение к вмиг исчезнувшей работе, закрытым школе, фельдшерско-акушерскому пункту, клубу, в Эстонке случился большой верховой пожар. Пожарные машины из райцентра на помощь не успели – несколько домов сгорело. Оставшиеся старики поняли, что в случае опасности не спасет никто: до райцентра 26 километров плохой дороги, а тайга – за околицей.
– Поля простаивают, вот и горит сухостой, – объясняет Кальк, который по совместительству еще и председатель Седельниковской избирательной комиссии. – Ухаживать за землей некому. Население сокращается катастрофически. Молодежь уезжает в город и не возвращается, старики умирают. Семь лет назад было еще 9300 избирателей, сейчас до 8000 не дотягивает. Причем, количество прописанных не совпадает с количеством живущих: их, конечно, больше. Приходится разыскивать через родственников, звонить, взывать к совести, чтоб проголосовали. Не в каждой деревне и избирательный участок есть. У нас теперь основная задача – организовать подвоз граждан, чтобы обеспечить право граждан на выбор. Или сами выезжаем, если народу мало или по каким-то причинам граждане не могу прибыть.
В Лилейке избирательного участка как раз нет – клуб стоит заколоченный. Из всех "социальных" учреждений работает только частный магазин, причем, по словам Калька, себе в убыток. Исходя из здравого смысла: закроется он – разъедутся последние жители. И так осталось 18 дворов.

– Большая деревня была, богатая, – рассказывает 82-летняя Сальма Августовна Леив, "последний абориген" Лилейки, как ее здесь называют. – Сначала, конечно, жили трудно: отец рассказывал, что, когда в колхозы загоняли, раскулачивали многих, ссылали. Только из Лилейки троих расстреляли под Тарой. Когда война началась, мне 8 лет было. Отца на фронт не отправили, у него нога была больная, а в трудармию забрали, через шесть лет только вернулся. Вместе с учителями после учебы ходили колоски в поле собирать – голодно было. Потом наладилось, повеселели. Женились, замуж выходили только за своих, как-то так принято было: рядом Черноярка, Эстонка, Васильевка, Баклянка, где тоже эстонцев большинство было. Теперь уж нет этих деревень. Школа у нас хоть и русская была, а дома на своем говорили. Правда, в Эстонии немного другой язык, там нас не понимают. Праздники вместе проводили в клубе или в роще за околицей. И советские – Первое мая, 7 ноября, и православные – Троицу, Пасху. На вербное воскресенье ребятишки с утра веточки ломали, шли по деревне, зазевавшихся хлопали по попам. Кто "словил вербу", тот угощение должен был выставить. Особенно народу много было на Иванов день – костры жгли, через огонь прыгали. Человек 250 собиралось.
Сейчас лилейцы вполне умещаются во дворе негласного старосты деревни, бывшего механизатора, а ныне вынужденного пенсионера Павла Марана. Под специально оборудованным навесом поставил старинный стол с самоваром на угольной тяге, диванчик, стулья. По стенам сарая – экспонаты: утварь, оставленная убывшими. Как начали односельчане активно разъезжаться 15 лет назад, так он и стал собирать музей деревни. Молодых теперь почти нет – средний возраст жителей, по его словам, 50-55 лет. Ребятишек – четверо на всю деревню, примерно одного возраста: 4-5 класс. Их на школьном автобусе возят на другую сторону Уя, в центральную усадьбу Новоуйку, где еще есть школа. Однажды даже привозили одноклассников похвастать бесплатным музеем.

– Это ностальгия, – обводит рукой Павел свои богатства. – По деревне, по жизни, по дедам и отцам нашим. Люди оставляют все по чердакам, по сараям, а я подбираю, сюда тащу. На новый год как-то в чугунках Тарского завода, который в начале прошлого века работал, приготовили картошку, капусту в русской печке, у меня одного дома сохранилась. Вкусно, аж животы заболели. А наливочку сами ставим – бутыли из толстого стекла свои у каждого, их по наследству передавали.

Патефон не работает – нет пластинок: хрупкие очень, не сохранилось. А вот маслобойки вполне еще рабочие. Их две, одна попроще: ступа, выдолбленная из цельного куска дерева с тяжелым пестом для взбивания сливок, другая посложнее, с винтом и ручкой. Люди по 3-4 коровы держали, как говорит Павел Иванович, много надо было перерабатывать. И хоть в Седельниково был свой маслозавод, местным жителям заводское масло не требовалось. Сейчас покупают, посылают в город, как съедобный сувенир – качество отменное. На продажу в Омск заводик свою продукцию не возит: далеко, дорога плохая, да и выпускает-то всего 46 тонн в год. Сырья мало: на весь Седельниковской район осталось 1200 коров. Держать их невыгодно – корма дорогие, пасти негде: пастбища пустуют, а все равно принадлежат каким-то богатым частникам, которых в районе и не видели. Закупочная цена на молоко низкая, особенно в сравнении с топливом: прежде на литр молока можно было купить три литра солярки, а теперь наоборот.

– Такую красоту тоже в Седельниково выпускали, – показывает Павел Иванович буфет из "красного дерева". – Сейчас пилорамы частные есть, но кедра, сосны ближе 200 километров к райцентру нет: береза да осина. Пилят и вывозят полуфабрикатом, изготавливать на месте негде. А вот, видите, последний товар Советского Союза: в 91-м на полках у нас, кроме пачек с табаком ничего не было. Нам, правда, тогда не надо было – еще сами все выращивали. Куда только делась наша Россия?
Рядом с прялкой 19 века и свадебной упряжью для лошади, которой пользовались до самого 21 века, когда еще в деревне праздновали свадьбы – современная чехословацкая шляпа.
– Папина, – вздыхает Павел Иванович. – У каждого мужчины в Лилейке была обязательно. Разного производства, главное, что у всех – разных оттенков, повторяться было нельзя.
Православная икона соседствует с целым "иконостасом": портреты российских правителей, вырезанные из журналов. Некоторые повторяются. Чаще всего Иван Грозный и Владимир Путин. Потому что дольше всех, как говорит Маран.
– Нет тут более ценных, все – история. Уходит деревня. – вздыхает Маран, – Мои дети давно уехали в город, только на каникулы наведываются с внуками. Раньше мы на природу выезжали, а теперь у нас кругом одна сплошная природа, больше и нет ничего. Некоторые сельские в Эстонию подались да в Америку. Я не хочу, тут моя родина. Последние ребятишки уедут в город, потом и мы уйдем, так пусть хоть что-то останется. А то и вспомнить нечего будет. Как не было нас…
"Умру вместе с деревней"
Адрес у Марии Макашевой обычный – улица, дом, если не считать, что в Неждановке больше нет ни улиц, ни домов. Осталась только ее изба на пригорке: деревянная крыша,пара окошек с фрамугами, кое-где затянутыми целлофаном вместо стекол, кусты рябины за покосившимся забором палисада.
– По весне зацветет – ой, красиво, – Мария показывает свои владения. – И ласточки прилетают, под крышей гнезда вьют. Потому и выбрала этот дом.
Выбор был не слишком богатый – в 1999-м, когда Мария сюда перебралась из города, в Неждановке было три дома. Теперь только покосившиеся сваи, на которых когда-то держались школа, магазин, клуб, напоминают о деревне. Народ начал стремительно разъезжаться в 90-х, когда развалился колхоз имени Ленина. Начальную школу закрыли, ездить стало не на чем ни до центральной усадьбы Рагозино, ни до соседней Саратовки, до которых примерно одно расстояние – 12 километров. Транспорт мимо Неждановки ходит не часто: места, как говорят местные, здесь богатые, но дорога все портит. Точнее ее отсутствие. Даже заезжие охотники на вездеходах почти не случаются: 300 километров от Омска до Седельниково по битому асфальту не прельщают и их. Потому звери в тайге, простирающейся вокруг сел, непуганые: лисы, зайцы, медведи подходят к самым окраинам. Так что лесные дары – неплохая добавка к натуральному хозяйству, которым живет большинство.
Столько скота, впрочем, как у 66-летней Марии – десяток коров и, телочек, небольшой табун лошадей, не держит в деревнях никто. У нее-то пастбище – вся бывшая Неждановка. Вскопать огород нанимает трактор, сено покупает по 800 рублей тюк, а надо ей много – только одна корова пять штук за зиму съедает. За березовые чурбаки тоже платит, а колет сама. Русская печка занимает ровно половину кухни и единственной комнаты, хотя по назначению используется не часто. Для экономии Мария соединила ее с буржуйкой: растапливать быстрее, дров уходит меньше. На ней и готовит, а в тепле подпечья живут куры. На широких полатях набросаны подушки – тут ночуют гости.
– Зимой часто молодые родственники из города на помощь приезжают, – объясняет она. – Ну и я им помогаю, рассказываю, что в 30-40 лет пора за ум браться. Травками пою, работать не заставляю, но куда ж тут денешься: не полежишь ведь лишний раз. Сама, бывает, утром вставать не хочу. Только ведь не успокоишь себя – мол, голова болит, ноги не ходят, завтра все сделаю. Как начнет все мое хозяйство голосить: коровы мычат, лошади ржут, собаки лают, идешь и делаешь.
Великовозрастных "воспитанников" Марии подкидывает многочисленная казахская родня: тех, кто в жизни запутался, работу не ищет, подружился с алкоголем. У нее не забалуешь: не поработаешь – не поешь. Она и сама в конце 90-х продала квартиру в центре Омска, чтобы спасти семью.
– Закончила в Омске кооперативный техникум, в банке работала, – вспоминает. – Своих мечтала в город перевести, я старшая в семье, братьев-сестер еще шестеро. Все горожанами стали, а я, наоборот, в деревню. В 90-х зарплату платить перестали, сын в вуз учиться поступил, женился даже. Сестра как-то приехала ко мне в город и рассказала про три дома на горке и рябину вокруг. Я и рванула. Избу купила, коровку, лошадок.
Соседи разъехались в тот же год. Муж тоже не выдержал – сельский труд оказался тяжелым. Сначала навещал, потом уехал с концами.
– А у меня дело важное было – сын, помогать ему – смеется Мария Бекеевна. – Теперь уж внучка взрослая, красавица: копия я в молодости. Мы полубелые, получерные: кровей намешано всяких. По бабушкиной линии, например, немцы поволжские.
Мария показывает фотографии, которые прислал сын. Письма почтальон ей не возит – сама ездит на почту в Рагозино на проходящем автобусе. Там и пенсию получает, и карточки для таксофона покупает: он висит у нее на воротах. Установили в 2006-м по государственной телефонизации села, к счастью для Марии, не разбираясь, сколько в деревне жителей. Очень он выручает единоличную владелицу деревенского таксофона: сотовая связь работает плохо. По нему звонит главе Рагозинского сельского поселения, когда переметает путь. Недалеко от дома до дороги – метров 100, но для Марии это дорога жизни. За водой она спускается по трассе к речке Шайтанке примерно с километр: водопровода в Неждановке никогда не было, а единственный колодец давно пересох. По таксофону в случае чего и "скорую" может вызвать, хотя ближайшая – в райцентре за 50 километров.
– Ни разу не пробовала, – смеется. – Я только вначале сильно болела, сюда-то старухой 20 лет назад приехала, хоть и 50-ти не было. Инсульт схватил, а я ж не знала. Села в автобус проходящий, в районную больницу приехала, хорошо, поставили на ноги. Говорили, что нельзя одной оставаться, тяжелое поднимать. Я соблюдала первое время, потом забыла – уже на автомате ведро хватаю, иду поить-кормить. Наперекор болезни пошла.
Последний раз в больнице она была пять лет назад. Выписанные таблетки так и лежат – больше доверяет травкам, которые собирает сама. Сейчас ее и 50 не дашь: густые волосы с редкой проседью, румяные щеки, блестящие глаза. Уверяет, что помогают физическая нагрузка и …верховая езда.
– Люблю на лошадке ездить, в детстве даже мечтала, что в цирке буду работать наездницей, – рассказывает Мария. – Вечером Орлика запрягаю, еду коров искать. Тихо кругом, ботала не слышно, думаю: а вдруг не найду. И чувства потери нет! То ли сердцем я спокойная стала, то ли окаменела. Стесняюсь только, когда дорога рядом – автобус пойдет, я прячусь вместе с Орликом. Чтоб не сплетничали. А то многие говорят, зачем, мол, тебе это, Маша, денег мало, что ли, пенсию ж получаешь. А я разве ж для денег? Там, в городе-то, какие дела у стариков? Похороны все больше, а у меня – тишь да благодать.
Мясо Мария недорого продает или раздает по родным. Раз в неделю, а то и в две выезжает в район, где по пятницам работает рынок, и не вспоминая про рекомендации врачей. Тащит на себе все 30 килограмм – ее сметану и творог любят постоянные покупатели. Молока много – коровы дают регулярный приплод, и если бычков она сдает на мясо, то телочек-"девочек" жалеет: пусть живут. Почти всю прибыль отправляет семье сына, который хоть и работает на стройке, но получает среднюю, по омским меркам, зарплату в 20 тысяч.
– Мне много-то не надо, – машет рукой. – Мир поглядела: и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Москве была. Все у меня есть – и телевизор, и даже машинка стиральная. Продукты свои, хлеб пеку, грибы-ягоды заготавливаю. Ну, когда в центре бываю, иногда вещь себе куплю, чтоб в райцентр выезжать нарядной. Косметику – тушь, помаду – тоже, а то что ж я бабкой буду выглядеть? Я и косу не состригаю, только челку равняю. Иногда и для себя накрашусь, а уж для гостей – как без этого.
Полгода – летом и весной-осенью, когда плывут дороги – гостей почти не бывает. Прежде сын отправлял внучку в каждые каникулы подышать воздухом, а теперь она повзрослела, не до деревни, в которой только и делать, что коровам хвосты крутить.
– Плохо одной, когда дождь идет: наброжусь по лесу, промокну вся, – сокрушается. – Пока растопишь! Залезаю под одеяло, все мои семь кошек вокруг улягутся, греют. Телевизор включу, посмотрю-посмотрю – столько бед на земле, за что это людям? Одно горе кругом. А я мечтаю, чтобы у всех мир был и покой. Как у меня. Не родилась здесь, но умирать тут буду – вместе с деревней.
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]