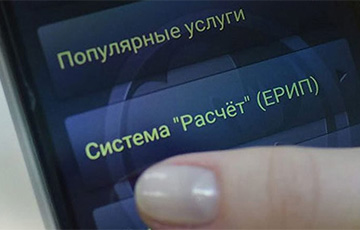Кшиштоф Занусси: Беларусь не началась со Второй мировой войны, а во времена ВКЛ

Надо копать более глубоко в историю.
На днях в Минск приезжал Кшиштоф Занусси. Не тот, который делает стиральные машины, а польский режиссер, лауреат всех главных мировых фестивалей и один из последних классиков европейского кино. Пану Кшиштофу в этом году исполнилось 80 лет, но он продолжает активно снимать, писать и летать по всему миру с презентациями своих фильмов и мастер-классами. В Беларуси мэтр показывал прошлогоднюю работу «Эфир» и впервые председательствовал в жюри «Лістапада». Onliner поговорил с режиссером о белорусском кино, экоактивизме и комиксах.
— Пан Кшиштоф, как настроение?
— Плохое, спасибо.
— Почему?
— Все говорят, что все нормально, а зачем? Просто такая американизация разговора.
— Вы очень много ездите по всему миру, в Минск вот прилетели из Индии. Приходится отказываться от приглашений просто из-за усталости?
— Есть, конечно, такие предложения, от которых отказываюсь. Но все равно считаю, что это такое благо: люди хотят встречаться, смотреть мои картины, слушать мои доклады. Поэтому не стоит думать, хватает ли сил. Пока успеваю, все делаю.
— Кинофестиваль «Лістапад» — в чем был ваш личный интерес принять в нем участие?
— Он связан со страной. Беларусь — соседская страна. Огромные связи. Были времена, когда я участвовал здесь в некоторых творческих проектах. Контактов было больше. Так что это такая соседская обязанность. Если у соседа день рождения, вы должны зайти.

— Вы были председателем жюри, но не основного конкурса, а национального. Не мелковато?
— Не стоит о таком думать. Это тоже нужная вещь. Я вижу, что есть какая-то новая энергия, которая появилась у вас в стране, в кино. Она чувствуется. И поэтому тем более стоит ее поддерживать.
— Что вы знали о современном белорусском кино до 5 ноября (день старта показов национального конкурса)?
— Я знал, что у вас была почти что эпидемия картин о Второй мировой войне, которые были основательным мифом. Не думаю, что это самый удачный миф для нации — надо копать более глубоко в историю.
Беларусь не началась со Второй мировой войны, она началась гораздо раньше, еще как часть Литовского княжества.
Авторов ваших я не очень хорошо знаю, но некоторые фильмы, как тот же «Хрусталь», встречал на других фестивалях.
— По факту вы ехали смотреть лучшее из того, что было снято в Беларуси за этот год. Ожидания совпали с реальностью?
— Знаете, никаких больших ожиданий и не было. Я понимаю, что здесь производство не такое большое, чтобы пришлось делать выбор из 40 фильмов или даже из 10. Есть ограничения. Но определенные тенденции я заметил. Хотя вот что меня удивило: люди слишком много времени уделяют сомнениям. Меня удивляет, что режиссеры делают настолько медленные картины, притом что сюжеты недостаточно развиты, чтобы их так растягивать.
— Вам можно обсуждать конкретные фильмы?
— Нет, всегда есть просьба этого не делать.
— Окей, какие-нибудь еще общие впечатления, кроме того, что все затянуто?
— Я увидел в этих картинах удивительный образ деревни. Он везде повторяется. Довольно драматический образ постаревшей деревни и стариков, которые в ней живут. Было определенное число таких фильмов, и это уже что-то значит.
— В выборе победителя у вас, как у председателя жюри, был решающий голос?
— Нет, нас ведь было всего три человека. Может, если бы было четное количество, тогда пришлось бы решать мне. Вообще, не надо думать, что награды имеют такое огромное значение. Если картину показали на фестивале, то это уже успех для автора.

— Некоторых смутило, что в национальном конкурсе участвовало кино, снятое в Беларуси режиссером из Германии, на немецкие деньги и с российскими актерами (речь о фильме «1986»). Как вы отнеслись к такому решению отборщиков?
— Меня это не касается. Мы сразу, как жюри, сказали, что отбор — это не наше дело. Если вы представляете картину в белорусском конкурсе, то мы ее должны смотреть как белорусскую. Был еще один документальный фильм, снятый в Америке («Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Геза. — Прим.). Это нас не удивило, по всему миру такое происходит и значения большого не имеет. Если бы таких картин было много, это была бы проблема.
— Такой подход не убивает понятие национального кино?
— К национальному кино вообще нужно подходить с осторожностью, потому что само понятие «нация» еще эволюционирует. Это довольно новое понятие в истории Европы. Двести лет назад наций не было, мы по-другому на это смотрели. Только после Наполеона царь назвал себя русским царем — раньше он был православным, не русским. Чувство династии для короля или императора было важнее, чем то, что мы сейчас называем нацией. Все эти понятия появились с развитием среднего класса. В Европе мы постоянно про это говорим, но это не главное.
— Многие свои фильмы вы тоже снимали в копродукции…
— Конечно, и на разных языках. Где-то делал на русском, где-то — на немецком. Потому что реальность такая была, а я пытался ко всему подходить реалистично.
— И вы относите их к польскому кино?
— Да. «Польское кино» — мы вообще так не говорим. Мы просто это чувствуем, зачем про это говорить? Мы делаем очень много фильмов в совместном производстве, это полезно для нас самих. Если мы хотим показывать кино в других странах, то лучше, чтобы из этих стран был кто-то в сопродюсерах.
Я больше половины своих картин снял в совместном производстве с разными странами. Много снимал и на чужом производстве. Конечно, это меня ограничивало. Я не могу рассказывать о своем детстве во французском фильме — у меня игрушки были другие. Но есть среды, в которых я чувствую себя компетентным. Могу снять историческую картину в другой стране, потому что знаю историю лучше, чем местные люди. Могу снимать об экуменической среде, потому что тоже хорошо ее знаю. Могу снимать о дипломатах: у меня много знакомых в разных ветвях власти по всему миру. Там все довольно своеобразно, но интересно. А о жизни человека с улицы снимать не осмелюсь, потому что недостаточно жил этой жизнью. Это еще Феллини сказал: «Как я могу снимать кино в стране, где я не знаю, какие сапоги носит пекарь?»
— Ваш новый фильм «Эфир» — о науке начала XX века. Тогда, по вашим словам, в ней было много тайн. В современной науке не так?
— Я до сих пор окружен моими друзьями-физиками и математиками (по первому образованию Занусси физик. — Прим.). От них слышу много интересных вещей о том, какие огромные перемены в менталитете произошли за последние 50 лет, с тех пор как я сам начинал как ученый-физик. Уже тогда пытались похоронить Ньютона и всю уверенность в устройстве мира, которую он принес со своей классической физикой. Начался новый мир, в котором, как говорил Эйнштейн, надо поверить в бога. Заново начали появляться тайны, вещи, о которых мы никогда ничего не узнаем.

Раньше казалось, что мы все когда-нибудь будем знать. Но возьмите электрон — вы не знаете, как он действует, где именно находится. Мы не понимаем время. Будущее существует, об этом физика говорит уже много лет, но люди этого не понимают, не чувствуют, что это может иметь свои последствия. Наверняка существуют способы почувствовать будущее. Даже гадания всяких цыганок — не на сто процентов абсурд. Большинство, конечно, обманывает. А кто-то, может быть, и нет. Наука к этому обращается, а не очень образованные люди считают, что все это бред и ненаучно.
— Космос?
— Ну конечно, мне интересен космос, он всем интересен. Потому что нашим внукам где-то нужно будет жить. Боюсь, что всем придется улетать в космос, потому что этой планеты не хватит.
— Но вы скептически относитесь к идее сохранения планеты и экоактивизму?
— Мы забываем, что экология без этики ничего не значит. А этика говорит: ограничь себя — только тогда можешь говорить об экологии. Надо просто признать, что мы слишком богатые и от части нашего богатства нам придется отказаться. Вот так, еще не нарадовались, а уже надо отдавать. Не отдадим — кто-то заберет. И я этого боюсь. Потому что моя часть мира, наша часть — Европа, она очень богатая по сравнению с какой-нибудь Индией или Африкой, где сотни миллионов ждут, чтобы приехать к нам и жить так, как им нужно. А это невозможно. С этим надо что-то делать.
— Вы слышали про Грету Тунберг?
— Конечно. Я вижу этот детский энтузиазм, он очень симпатичный, но мысли поверхностные.
Нет понимания, что сколько стоит и какую цену нам придется добровольно заплатить — перестать покупать, а значит, прекратить всю рекламу. Люди забывают, что миру вредит реклама. Потому что она убеждает, что вам нужны еще одни перчатки, а вам они не нужны. Нам не нужна половина наших вещей, мы свободно можем отдать их. И если бы эта маленькая девочка подумала о том, что, может быть, ей надо от чего-то отказаться, оставить дома одну куклу, а не десять, тогда ее экологическая деятельность мне нравилась бы больше.
— Многие деятели кино ее поддерживают.
— Все ищут новые идеи. Потому что те, что нам полвека предлагали левые, уже неэффективны. Такого рая, который обещали Маркс, Энгельс и Сталин, мы не построим. Нужны новые идеи, без идей люди жить не могут. И без утопий. А старые утопии рухнули. Вот новая утопия — спасти тот мир, который есть, если построить новый не получается. Этот идеализм мне даже симпатичен, но хотелось бы, чтобы он был более глубоким.
— Еще один классик из Польши, Роман Полански, кажется, сейчас снова в авангарде мирового кино. Летом вышел фильм Тарантино о его истории. Потом он сам представил в Венеции «Офицера и шпиона» — лучшую, по мнению многих, свою работу за последние 15 лет. Вы общаетесь с Полански?
— Да, мы давно знакомы, вместе учились в киношколе. Я очень уважаю его как коллегу. И его новая картина очень хорошая.
А фильм Тарантино меня, наоборот, разочаровал, потому что он очень поверхностный и проходит мимо гигантской трагедии. Мне очень жаль, что Тарантино не попробовал почувствовать весь масштаб произошедшего.

Вместо этого он показал какие-то сплетни, мелкие вещи, аллюзии к другим картинам, которые совсем не интересные. Не мое дело судить это кино, но оно сделано скорее для киноманьяков.
— Какое отношение к Полански в Польше?
— Мы все его очень ценим и любим. Он часто приезжает и всегда считался и будет считаться нашим живым классиком.
— В прошлом году его исключили из Американской киноакадемии…
— Это абсолютная истерика. В том, что произошло 40 лет назад, он виноват, и это невозможно забыть. Но он свой, что называется, штраф уже получил. А сейчас это все для меня выглядит просто как спекуляция.
— В свое время у вас тоже были конфликты с феминистками.
— Во всех этих движениях, конечно, есть что-то положительное. Но очень много и поверхностной истерии. Все это связано с идеей, что наш пол — что-то искусственно сформированное. А я в этом не уверен. Природа все-таки нас сильно ограничивает. И не надо считать, что мы полностью хозяева нашего тела. Оно нам принадлежит, но мы получаем его в аренду. И поэтому меня феминистки не радуют своими мыслями о том, что они полностью владеют своими телами.
— Тем не менее Полански в сентябре получил четыре награды в Венеции. Вас тоже всегда представляют как неоднократного лауреата Венецианского, Каннского, Берлинского кинофестивалей. Но в последние годы ваших фильмов там не видно. На это есть причины?
— Есть. Я с некоторыми кинофестивалями просто в конфликте. Это началось еще 40 лет назад, когда я снял картину о Папе Римском («Из далекой страны: Папа Иоанн Павел II». — Прим.) и у многих левых возникло недовольство. Я понимал, что такой шаг будет мне дорого стоить. Но это лишь один из элементов. Вообще, у крупных мировых фестивалей просто есть желание открывать что-то новое, а не подтверждать то, что уже было. Так что я перестал быть их постоянным клиентом.
— То, что кинофестивали все больше смотрят в сторону мейнстрима, вас беспокоит? 35 лет назад «Золотого льва» в Венеции взяли вы, а теперь вот — «Джокер».
— Это перемены, которые происходят повсеместно. Я не очень этому рад, но что поделать, надо жить дальше. Венеция, Канны — это же не все фестивали, их огромное количество по всей Европе, столько провинциальных смотров. И я на такие не очень известные фестивали готов поехать, потому что там я встречаю настоящую публику. Есть впечатление, что люди ходят, потому что им действительно интересно. Такое нечасто встретишь.
— Вы смотрели «Джокера»?
— Да, мне не интересна эта картина.
— Уже больше месяца тянется история с Мартином Скорсезе и его резкой критикой в адрес фильмов Marvel. Может, на правах его современника и классика тоже выскажетесь?
— Комиксы, comic strips, еще в моем детстве были вещью позорной. Если кто-то приносил в школу комикс, все над ним смеялись: о, неграмотный, ему картинки нужны, он не умеет читать. Комикс, конечно, развился, стал красивее, но все равно это примитивное средство коммуникации с аудиторией. И кино, основанное на нем, тоже очень примитивное. Серьезное кино не может быть снято по мотивам комикса.
Вы же не сделаете комикс из «Войны и мира», «Преступления и наказания», Джозефа Конрада. Можно попробовать, но с такими произведениями так поступать не стоит. Комикс таких мыслей не передает. Это массовая культура, а она не так важна, как интеллектуальная.
— Сериалы — туда же?
— Я сам делал что-то похожее на сериал как продюсер. С Кшиштофом Кеслевским, про десять заповедей («Декалог» 1989 года. — Прим. ). Но это антология, гарантированная встреча с публикой несколько раз. Совсем другое дело. А обычный бесконечный сериал — это бессмыслица, такие произведения разбивают корни европейской культуры. Наша культура рассказа основана на греческой драме, где есть кульминация и есть развязка. В сериале все на одном уровне. Этот хаос в плане построения драмы разрушает то, что было огромным достижением Европы.
 30.01.2025
Один крупнейших нефтяных портов РФ на Балтийском море встал из-за удара украинского дрона
30.01.2025
Один крупнейших нефтяных портов РФ на Балтийском море встал из-за удара украинского дрона
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]