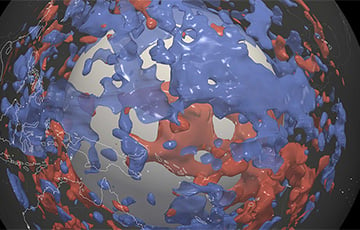Дыхание Чейна-Стокса

Об одном прекрасном дне в истории.
«Каждый день и каждый час Сталин думает о нас». Были такие стихи. А еще были стихи примерно про то, что «над Кремлем плывет колечко — это Сталин закурил». А еще про то, как Сталин достает рукою до Солнца. Он с утра и до вечера ласково и мудро глядел с портретов и все думал, думал, думал о нас.
А мы — о нем.
И я думал о нем, вглядываясь в бесконечно интригующие детское воображение черты на обложке «Огонька», думал о нем, пытаясь на тетрадном листке в клеточку перерисовать его портрет. Особенно тщательно я трудился над его усами. Усы эти я иногда изображал отдельно от их хозяина — усы как таковые. Мне это казалось вполне естественным: в благородной симметрии усов мне виделись и символ, и гарантия жизненного порядка и душевного комфорта.
Приятель-литератор, лет на пять моложе меня, сказал однажды: «Как же тебе повезло, что ты помнишь смерть Сталина». Повезло? Не знаю. Но то, что помню, это точно. Я вообще помню себя очень давно, примерно с трехлетнего возраста. А уж начало марта пятьдесят третьего года! Еще бы!
Я уже совсем большой, мне уже пару недель как шесть лет. Я лежу с очередной ангиной. Я выздоравливаю. Но глотать все еще больно. Мама пошла в аптеку за стрептоцидом, и ее все нет и нет. На этажерке, покрытой кружевной салфеткой, стоит, подмигивая изумрудным глазом, трофейный радиоприемник. Я слушаю все — от гимна до гимна. Но сегодня все как-то совсем не так.
Нет утренней гимнастики (преподаватель Гордеев, пианист Потапов). Нет «Пионерской зорьки». Не слышно ни баритона Бунчикова, ни тенора Нечаева. Нет ни Буратино, ни Чиполлино. Никто не разучивает со мной песню «Эх, хорошо в стране советской жить» («А теперь прослушайте этот куплет в исполнении детского хора!»). Никто не загадывает мне загадки («Кто загадки любит, тот их и услышит. Кто их угадает, тот нам и напишет»). А куда подевались произведения советских композиторов? А куда делись сами композиторы? Куда делся в тот день композитор Сергей Прокофьев, я узнал много позже — совсем не до него было в те дни.
Ничего нет. В томном блаженстве выздоровления я слышу только очень медленную и ужасно скучную музыку и голос Левитана, знакомый по Первому мая. Но сегодня же не Первое мая! Да и голос совсем не праздничный.
«Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза…» — раздельно произносит голос, а потом говорит что-то еще, совсем непонятное, про какое-то «дыхание Чейна-Стокса». Это пресловутое «дыхание», этот сугубо медицинский термин обрел постепенно символико-анекдотические очертания. Мой остроумный друг, например, придумал однажды: «Выдь на Волгу. Чейн-Стокс раздается».
А тогда… О чем речь? Сталин заболел? Так ведь и я заболел — что ж тут такого? Поболеет и встанет.
Да нет, не просто заболел. Да нет, не встанет. Из школы пришел старший брат. Он уже совсем большой, ему пятнадцать. Он уже совсем большой, но он в слезах.
Брат сказал: «Умер Сталин». И я непонятно отчего начал вдруг ерничать и кривляться. Забыв про больное горло, я стал громким, дурацким, петушиным голосом передразнивать торжественную и скорбную интонацию брата. А он — от страха ли, от чего ли еще — так треснул меня по уху, что я отлетел в угол и заревел тоже. Так мы оплакали нашу общую потерю.
У каждого поколения свой Сталин, и каждое поколение разбирается с ним по-своему.
Для поколения моего старшего брата, поколения, прозванного «шестидесятниками», поколения ХХ съезда, Сталин был, разумеется, исчадием ада, зато положительным героем был Ленин, чьи светлые идеалы были растоптаны усатым монстром.
Все это межеумочное мировоззрение укладывалось в короткую формулу «Плохой Сталин, хороший Ленин».
Для моего поколения Сталина, как ни странно, почти не существовало вовсе. Считалось, что его давно уже нет, несмотря на трусливые попытки его стыдливой реабилитации в семидесятые годы или на его портретики на ветровых окошках грузовых автомобилей. Нет, его не было, и говорить о нем было совсем не интересно.
Зато отовсюду пер Ленин в разных видах, обличиях и агрегатных состояниях. В виде топонимов, памятников, плакатов, цитат на каждый случай, в виде литературно-художественных «лениниан», в виде «миролюбивой ленинской политики», принимавшей разные малопочтенные формы — от ввода войск в Чехословакию, до ввода войск в Афганистан.
Мы разбирались с явлением по имени «Ленин». Разбирались довольно энергично. Мы выводили его, как выводят жирное пятно на скатерти. И к концу восьмидесятых это пятно приняло совсем уже бледный, едва различимый силуэт.
А Сталина — нет, его не было.
Для новых, постперестроечных поколений, в той или иной мере усвоивших нейтрализующий, деконструктивный опыт соц-арта 1970−1980-х годов, Сталин, как и прочие персонажи прошедшего века, стал всего лишь поп-фигурой, вполне пригодной для рекламных роликов и водочных этикеток.
И это было бы хорошо. Это безусловно работало бы на деактуализацию одного из самых стойких мифов прошедшего столетия. А сакраментальная, вполне автоматизированная, но все еще тревожащая формула «Нет на вас Сталина» означала бы лишь то, что никакого Сталина на нас действительно уже нет.
Это было бы хорошо, если бы недозахороненные «тараканьи усищи» в наши дни все заметнее и заметнее не торчали бы из всех щелей, и прежде всего из той никак не заделываемой щели, из той вечной трещины, того болезненно саднящего шва, что отделяет прошлое от настоящего, что разделяет общественный организм на две непримиримых части, что разделяет язык общественной жизни на два не переводимых друг для друга языка.
Впрочем, здесь речь идет ни о каком не о Сталине, а всего лишь о неких событиях почти семидесятилетней давности. Речь идет не о Сталине, а лишь о его физической кончине.
О том идет речь, как однажды в начале марта, в четверг остановилось сердце любимого отца, вождя всего прогрессивного человечества, корифея всех наук, величайшего полководца, гения всех времен и народов, строгого, но справедливого начальника, эффективного менеджера, сына горийского сапожника, недоучившегося семинариста, грабителя банков, коварного интригана, властолюбивого тирана, палача и убийцы, одного из самых кровавых преступников в истории человечества, сухорукого ублюдка, мелкого и мстительного ничтожества, звериным чутьем умевшего угадывать тайные помыслы угрюмой толпы.
Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]