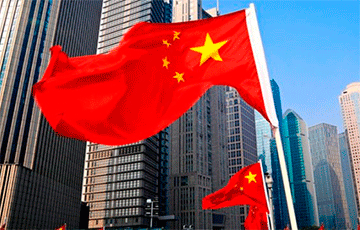За Победу пьют молча

Кто еще помнит, что празднуется 9 мая.
Приближения одного из широкомасштабных, неукоснительно соблюдаемых и яростно культивируемых в нашей местности календарных обрядов я всякий раз ожидаю с обреченной и нарастающей по мере приближения его даты сердечной тоской.
И тоска эта крепнет год от года в той же мере, в какой — тоже год от года — повышается градус «победного» беснования. А он, этот градус, растет прямо пропорционально естественному, увы, убыванию, на грани фактического исчезновения, числа реальных — не только непосредственных участников, но и просто живых свидетелей тех давних уже событий. Чем меньше остается живых фронтовиков, тружеников и тружениц тыла, и даже «детей войны», тем толще становится слой липкой, тошнотворной, постепенно коричневеющей карамели, которым густо и неопрятно покрывается вся нынешняя гулкая идейная пустота, весь тупой воинственный нахрап, весь сивушный надрыв захолустного империализма.
И тем выше градус бездумного инфантильного бесстыдства.
Так скверные дети, когда их родители уходят в гости или в театр, наряжаются в дедовский парадный мундир, навешивают на себя ордена, снимают с ковра старый кортик и, размахивая им во все стороны, радостно носятся по дому с воплями «можем повторить».
Вот это нынешнее, тщательно культивируемое казенно-фальшиво-праздничное и одновременно истерично-агрессивное отношение к Девятому мая, невыносимое для человека моего поколения и моего опыта, в значительной степени наследующего опыт моих родителей и всех тех, кто пережил все это, похоже на то, как кто-то (многие) празднуют Пасху, не сильно задумываясь или даже вовсе не зная о том, что, какие события предшествовали чуду Воскресения.
Несколько поколений уже сменилось с тех уже легендарных событий. А вопрос «Чья это победа?» не может не возникнуть не только для каждого поколения, но и для каждой социальной группы, даже если он, этот вопрос, и не произносится вслух.
При ничуть не угасаемой, а, напротив, все нарастающей эскалации взвинченной, с примесью блатной слезы, воинственно-оборонительной риторики возникает четкое и тревожное ощущение, что война не то чтобы закончилась семьдесят пять лет тому назад, а еще даже и не начиналась.
Чем от войны дальше, тем она ближе. Кажется, в теории иконописного искусства это называется «обратной перспективой».
И чем дальше уплывают в эту самую обратную историческую перспективу те реальные события, тем сильнее блудливый соблазн героями-победителями в той страшной и кровавой битве назначить самих себя.
Слово «победа» служило заклинанием и паролем, открывавшем сердца, в годы войны. «За победу» знаменитые сто грамм выпивали солдаты и офицеры в окопах и блиндажах, врачи и медсестры в госпиталях и все прочие те, кто жили ожиданием и надеждой — в трудном и тяжком тылу.
Когда эта вожделенная Победа наконец наступила, само слово ушло в тень, а ключевым стало слово «Война». По крайней мере так было в годы моего детства, когда «Победой» был уже скорее послевоенный автомобиль.
А вообще — «война». «Во время войны», «до войны», «после войны» — в таких величинах измерялась коллективная и персональная биография поколения.
Я, не поверите, еще застал сильно поредевшее к тому времени поколение, представители которого, — например, моя бабушка, — говоря «до войны», имели в виду ту самую, которую в официальной историографии называли «первой империалистической», плавно перетекшей в «ту единственную» гражданскую.
Но в годы моего детства «единственной» стала уже другая война. Та самая «Война», которую окружавшие меня взрослые ненавидели и о которой старались пореже вспоминать, чьего повторения боялись пуще смерти. Попался бы им тогда на глаза какой-нибудь недоумок с лозунгом «можем повторить».
Та самая «Война», которая стала роковым рубежом не только в истории страны и человечества, но и в истории семей, но и в каждой персональной биографии.
Непосредственно после войны, то есть в годы моего детства, «Война» была делом частным, она была еще саднящим, еще кровоточащим, еще пахнувшим дымом и гарью объектом поэзии, прозы, кино, лирических песен. Но в официальной риторике она звучала слабо, приглушенно.
Со временем эти исторические события обросли такой толщины слоем ракушек и полипов, что могли бы показаться уже и вовсе мифическими, если бы не существовали еще люди — хотя бы даже и моего поколения, — для которых несомненная реальность этих событий была явлена в наглядном, пронзительном, болезненном виде — ну, например, в виде немыслимого количества увечных мужчин разного возраста, окружавших нас настолько плотно, что это казалось нам вполне обычным делом, казалось, что это в порядке вещей.
Я это помню хорошо. И висевшее на вешалке в нашей коммуналке пальто Лени Танкилевича, бывшего танкиста, совсем еще молодого даже по моим тогдашним представлениям, — пальто, один из рукавов которого был засунут глубоко в карман. И одноногого, с подвернутой штаниной застиранного галифе, постоянно нетрезвого баяниста дядю Колю, тихонько выпивавшего в кухонном углу. И дерущихся костылями инвалидов около пивнушки на углу Железнодорожной и Калинина. И однорукого точильщика ножей на Мытищинском рынке. И вовсе безногого, передвигавшегося на подшипниковых колесиках по проходу в электричке и продававшего завернутые в фольгу, набитые опилками мячики на тонких резиночках. Ужасно нравились мне эти нарядные и веселые мячики.
Такой вот был образ «победы».
А праздник? Был и праздник. Хорошо помню, что в течение скольких-то лет вечером этого дня (а он в те годы не был выходным) на кухню выходил мой отец в полосатой пижаме и с пустым стаканом в одной руке и нарезанным соленым огурцом — в другой. Там же появлялись уже упомянутые дядя Коля на костылях и ярко рыжий Леня Танкилевич, державший в единственной руке казавшийся мне необычайно красивым граненый графинчик, наполненный какой-то прозрачной жидкостью. Чуть позже к ним присоединялась и Зинаида Ивановна, бывшая связистка, полная громогласная женщина с металлическими зубами и в пестром халате.
Они молча наливали, молча выпивали, ритуально морщились, торопливо закусывали и расходились по своим текущим делам. Как я узнал позже, молча они выпивали потому, что выпивали они за тех, кто не вернулся. Какие уж тут речи — всем все понятно.
Такой был праздник. Настоящий.
Сейчас многие говорят: «Украли праздник».
В общем-то, да, эти сшибающие с ног потоки агрессивной пошлости, крикливости, рубахоразрывания на груди, эти напяленные на головы визгливых нетрезвых девок и пухлых младенцев солдатские пилотки — продукт незатейливого и поэтому успешного коммерческого «креатива» с патриотическим уклоном — все это действительно захлестывает по горло, и все последние годы это только нарастает. Это, увы, так, и это на самом деле невыносимо.
Но я все равно в этот день буду извлекать на поверхность и разглядывать старые отцовские фронтовые фотографии, в том числе и ту самую, присланную им с Ленинградского фронта моей маме и моему брату в Уфу, где они жили в эвакуации. Ту самую, датированную 1943 годом, где отец был снят в новеньких капитанских погонах. Ту самую, увидев которую, мой старший брат, которому тогда было пять лет, громко, так что это могла слышать вся безразмерная очередь за хлебом, спросил: «Мама! А кто главнее — папа или Сталин?», и мама сделала вид, что не услышала его вопрос, и те, кто стояли в очереди рядом, тоже сделали вид, что не услышали.
И я все равно буду вспоминать бесконечно повторенные с новыми и новыми деталями и подробностями мамины рассказы про эту великую, про эту счастливую ночь, когда никто не спал и не выключал радио, потому что все ждали СООБЩЕНИЯ.
А когда сообщение прозвучало, вся Москва высыпала на улицы и двинулась к центру. Там плакали, смеялись и обнимались незнакомые с незнакомыми. Ни им, ни мне, ни нам не надо было прежде, не надо и теперь обвязываться пестрыми лентами. Нам не нужны узелки на память. У нас с памятью, слава богу, все в порядке. Поэтому никто ничего у нас не украдет. И не отнимет. С праздником.
Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»
 31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
 31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]