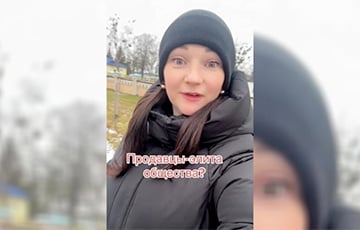Станислав Шушкевич рассказал об оккупации и освобождении Минска

Первый руководитель независимой Беларуси поделился воспоминаниями.
Когда началась война, Стасю было 7,5 лет. Мама-учительница запретила сыну ходить в школу, сказала называть себя дошкольником. Но главное воспоминание о войне - первый советский танк-освободитель, въехавший в белорусскую столицу, пишет kp.by.
- Наш дом был маленькой деревянной развалюхой, стоял на Слепянской улице, в том месте, где сейчас левый тыльный угол филармонии, - вспоминает 85-летний Станислав Станиславович. - Помню, накануне освобождения 3 июля 44-го мама, бабушка, сестра и я ушли на погорелище - часть центра, которую погубил пожар в первые дни войны. Деревянные дома сгорели, а погреба с подобиями перекрытий кое-где остались, и мы прятались в них, боясь боевых действий.
Тогда для фашистов было обычным делом пристрелить кого-нибудь по любому поводу. Провели в укрытиях и ночь на 3 июля.
Под утро все затихло, посветлело, все выползали из укрытий. Мы тоже вышли к Советской улице напротив нынешней гимназии №23 - между Козлова и площадью Якуба Коласа, тогда ее называли Комаровка.
По Советской шел танк. Все кричали «Ура!». И танкист с флагом тоже кричал «Ура!», а затем знатно матерился. Это было его приветствие-поздравление минчан с победой Красной армии!

- А до Победы вы, дети, понимали, что живете в оккупации? Немцев боялись?
- Один случай заставил бояться. Во время оккупации ходили двухвагонные трамваи. Первый вагон - только для немцев, второй для остальных.
Однажды под первым вагоном что-то взорвалось. Никто не пострадал, но немцы расценили это как теракт, схватили первых попавшихся минчан и расстреляли у всех на виду…
В первый класс мама меня не пустила, к тому времени я уже читал на русском, белорусском и немного на польском. Мама преподавала эти языки. А еще писал печатными буквами - в том числе отцу письма в Сибирь (в 37-м году его объявили врагом народа за «контрсоветскую пропаганду» и отправили в ссылку).
Когда отца забрали, мама еще не была учительницей.
Оставшись без кормильца,она пришла в КГБ и сказала: «Арестовывайте и меня, потому что мне нечем кормить детей и мать - на работу жену врага народа не берут». Ей сказали прийти завтра - и, странное дело, дали место преподавательницы.
А ведь до того Аркадзь Кулешов (поэт и переводчик) на комсомольском собрании сказал, что «эта женщина написала в анкете «замужняя», то есть считает врага народа своим мужем» - и маму исключили из комсомола.

Думаю, это была зависть - мать и отец до войны были членами Союза советских писателей, более того, мать была делегатом Первого съезда советских писателей. Кулешова делегатом не избрали, а мама представляла белорусских писателей-комсомольцев.
- Как выживали во время войны без главного кормильца?
- У нас при доме был огород, соток 20. Заведовала им бабушка - и картошку сажала, и меня помогать заставляла. Рос щавель, лук, чеснок, помидоры под бумажными колпаками, огурцы, репа, редиска. Плюс кусты малины, крыжовника, смородины.
Мы любили покупную картошку, но она была роскошью, приходилось есть свою, жидковатую, безвкусную - поскольку сажали ее год за годом в одном месте. Вдоль забора росла конопля, никто не знал, что это наркотик, и козы уплетали ее с удовольствием. У нас было две козы, а иногда и поросенок.
- Когда началась война, сразу поняли, что происходит?
- Нет, 22 июня, в воскресенье, мы с бабушкой пошли в парк Горького. Были убеждены, что война Минска не коснется, враг будет разбит моментально. У нас была радиоточка, и все, что по ней говорили, мы считали правдой. А говорили, что «непобедимая и легендарная Красная армия всех разгромит»…
22 июня мы с бабушкой были на празднике, а 28-го пришли немцы, и начался ужас… Позднее на улицах вывесили объявления: «Всем евреям заявить о себе и переселиться в один район (его не называли гетто)».
На нашу Слепянскую улицу переселили семью из района, где образовали еврейское гетто. Я, как и все соседи, знал, что их сын, Гарик Шифрин, с которым мы дружили - еврейский мальчик, но никто его не выдал. А ведь за недонесение полагался расстрел.
Я видел повешенных - молодых, симпатичных, видел, как вешали, это было ужасно. Они долго висели, на них еще были таблички - кого за что повесили.
Расправы были жуткие, страх наводнил город…
Были, увы, и те, кто встречал немцев цветами. Самое интересное, это была еврейская семья, мы их знали. Потом эти же немцы их и угробили…
Люди тогда не озлобились на советскую власть, хоть у многих были основания: накануне войны эшелонами отправляли в ссылку - мужей у мамы, у моей классной, у маминой подруги. Но солидарность людская во время оккупации была невообразимая.
У нас было две козы, одну доили. Бабушка распределяла козье молоко - по стакану на каждого младенца на нашей улице.

Помню, как однажды пас козу, она зацепилась выменем за колючую проволоку, и из нее много часов капало молоко… Для меня это был ужас - я недосмотрел столько молока!..
Но мама даже не устроила мне взбучку - колючая проволока была повсюду.
Немцы были разные, яйца любили. Заходили, говорили: «Матка, яйко!» Выменивали яйца на хлеб или на что-то из военного довольствия.
- Найн! - отрезала бабушка.
Лишних яиц не было, хоть куры у нас были. Зимой жили с нами в доме, под припечком. Мама ходила по утрам на барахолку, выменивала шмотки на хоть какую еду.
Однажды удалось купить кусок сала, и мама разрезала его на 30 кусочков - по кусочку в день на месяц. Работы всегда было много: дрова пилить-колоть, вскапывать огород, навоз из хлева на огород таскать, козу пасти на погорелище, выкорчевывать замерзшие деревья в саду. И крышу ремонтировать на доме.
Во время оккупации разрешалось иметь одну 25-ваттную лампочку на дом. Соседи считали меня знатоком электричества, звали ремонтировать. Уличным «электро-ремонтером» я оставался и после войны.
- Зарабатывали на карманные расходы?
- Это стало бы позором - помочь соседу за деньги! Максимум - краюха батона или две-три конфетки-подушечки. А еще играли в «пикер» - броски палками по консервной банке, стоящей на кирпичине. Или в футбол той же банкой.
Помню, как за несколько дней до освобождения у нас в саду прятался человек. Похоже, откуда-то сбежал. Помню, что песню напевал. Я тогда не понимал смысл слов «лесом, туманом, дорогой пустой - парень идет на побивку домой». Все думал - за что побили? А после войны эту песню услышал - и понял, что «на побывку».
- Вы его подкармливали?
- Скорее он нас, когда что-то где-то добывал. Помню, как он нам с соседом Славкой дал съесть что-то типа печенья.
- Не боялись брать у незнакомца?
- Если что-нибудь тогда сожрать перепадало, извините за сленг, это было счастье! В оккупации все по карточкам получали одинаково: иждивенцы - 300, работники - 500 граммов хлеба в день.
- Получается, как-то адаптировались к новой жизни?
- Мы всегда ждали, что придут «наши», но обсуждать такое было нельзя. За это могли пристрелить на месте. Помню, страшный случай: когда налетела советская авиация, улицу перебегала старая женщина. Сейчас это район Гикало, недалеко от ЦУМа. И из какого-то окна пулеметчик пристрелил эту бегущую старушку…
- Что вы тогда знали про партизан?
- Мы знали про них от маминой сестры - ее семья жила в деревне Камень, в 7 километрах от Ивенца. Там были партизаны хорошие и плохие. Хорошие боролись с немцами, а плохие показывали гранату, говорили, что сейчас взорвут - и забирали все, что было, даже скот. С тех пор для меня партизаны всегда двух категорий.
А потом случилось так, что мою маму забрали в концлагерь - как ответ на партизанскую акцию. Она чудом попала не в Тростенец, а в лагерь на Широкой улице. И позже ее выпустили...
Еще помню, что когда пришли наши, одно время у нас под окнами стояла самоходная пушка. У экипажа был пахнущий машинным маслом хлеб - его пекли на таком масле из-за отсутствия пищевого.

Хлеб ели, но корку обрезали, и из нее мама сделала бражку на у кого-то добытой патоке. Получался хмельной напиток, и красноармейцы несколько дней подряд праздновали с ним освобождение Минска.
 05.02.2025
Беларус, оштрафованный за пьяное вождение, добился пересмотра закона через Конституционный суд
05.02.2025
Беларус, оштрафованный за пьяное вождение, добился пересмотра закона через Конституционный суд
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]