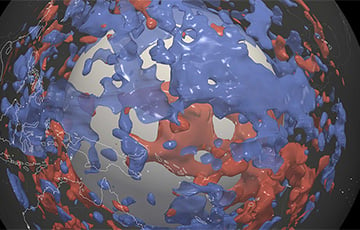Отец Марии Колесниковой: Мы все изменились, а система, которая сейчас у власти - нет

Добро обязательно победим зло.
6 сентября Минский областной суд приговорил члена штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Проходивший с ней по одному делу адвокат Максим Знак получил десять лет колонии (приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован). Спецкор «Медузы» Ирина Кравцова поговорила с отцом Марии, Александром Колесниковым — о суде и приговоре, о том, почему его дочь пошла в политику, почему не захотела уехать, а также о настроениях в Беларуси.
— Вы ожидали, что вашей дочери дадут настолько большой срок?
— Вообще я не ожидал, я знал. Знал, что срок будет. Но в глубине души ожидал, конечно, что наказание будет не таким строгим.
Здесь противоречивые чувства: когда знаешь человека, который вершит судьбы простых людей, все равно хочется верить в лучшее, что что-то хорошее там есть, что-то там еще теплится. Но после оглашения приговора, я снова убедился, что тот человек и та система, которую он выстроил, она не считает, что жизнь одна и что у каждого она своя, и что это величайшая ценность, а полагает, что ей можно распоряжаться, как хочешь. Захотел — дал 11 лет.
Я мог удивиться, если бы ее отпустили, вот это бы да, я бы тогда, наверное, зауважал этого человека. Но видите, мне не дали возможность поверить в людей.
— Когда озвучили эту цифру — 11 лет, вы как-то в уме прикинули, что Мария выйдет, когда ей будет уже 50?
— Я все-таки думаю, что ситуация изменится, и мы с Машенькой скоро встретимся. Я буду об этом мечтать, это придает мне силы. Я вижу просто по настроению друзей Машиных, своих друзей близких — все в ожидании того часа, когда все изменится.
— А сколько было вам и Марии, когда Лукашенко пришел к власти?
- Мне было 39, а сейчас мне 65. А Маше, когда он пришел, было 12 лет.
— Кем вы работали в то время?
— Я долгое время проработал в авиационном училище, а после развала СССР стал инженером-электроником в вычислительном центре гражданской авиации.
Мы были воспитанниками Советского Союза. И нас не учили думать самостоятельно. Мы были далеки от политики, потому что за нас все решалось. Мы понимали, что не имело смысла активное участие принимать в той ситуации. И, к сожалению, это перенеслось и на начальную ситуацию, когда развалился Советский Союз. Все менялось очень быстро, а опыта политической активности и социальной какой-то ответственности у нас не было. В то время мы ставили целью выживание собственной семьи. Это, наверное, было характерным для всех белорусских молодых семей.
Когда в Беларуси были объявлены первые президентские выборы, фигуру первого президента мое сознание рисовало так: образованный, очень тактичный, честный. Мне хотелось видеть действительно очень авторитетного, очень грамотного, очень честного порядочного человека, который был бы, как Петр Машеров.
И такой человек был! Я до сих пор считаю, что в тот момент такой фигурой мог стать Станислав Шушкевич. Мне было обидно, когда популизм Лукашенко, это иначе не назовешь, его непорядочность, его злопамятность привела к тому, что Шушкевича просто отодвинули в сторону. Теперь я представляю, что пережил этот человек.
Он сейчас уже в возрасте, живет в Минске. Слава Богу, он здоров. Мне всегда приятно слышать его интервью. Это действительно образец образованного, очень грамотного и в общении очень приятного человека. Если бы тогда все получилось по-другому и Станислав Станиславович не был устранен от политической жизни, я думаю, что и Беларусь бы была совершенно другая.
«Пап, ну ты теперь разницу понимаешь»?
— Маша с раннего детства росла с обостренным чувством справедливости и некой ответственности. Позиция начала у нее формироваться в старших классах.
У нас часто в семье были споры, что важнее — страна или жизнь человека. Ведь в Советском Союзе нас воспитывали в том, что на первом месте прежде всего интересы страны, а семья — второстепенное. Мы изо дня в день видели, что понятия человеческого достоинства, ценности жизни отдельного человека ставились на второй план. [Видели], как людей иногда лишали свободы, жизни даже, и это происходило просто по чьему-то желанию… Конечно, это ее задевало.
— Как вообще получилось, что ваша дочь, музыкант по образованию, которая училась и строила музыкальную карьеру в Европе, вернулась в Беларусь и пришла в политику?
— Последние 13 лет Маша жила вдали от Беларуси — в Германии. То есть приличный такой отрезок жизни она провела за границей. Во время всех встреч, когда она приглашала меня посетить Германию, я обращал внимание, что она интересовалась устройством политической жизни там. Я задавал ей вопросы о выборности в Германии, о, скажем так, социальной ответственности государства перед людьми. Она живо мне рисовала разницу. И всегда с улыбкой спрашивала: «Пап, ну теперь ты разницу понимаешь?». Она мне давала понять, что в Германии и в Евросоюзе, поскольку она много путешествовала, все устроено для блага человека. И возвращаясь в Беларусь, я и сам отчетливо замечал разницу.
 Фото: meduza.io
Фото: meduza.io — Как вы отреагировали на то, что Мария стала координатором штаба Виктора Бабарико?
— Сказать, что я обрадовался — это вряд ли. Но я прекрасно понимал, что это решение Маша принимала самостоятельно, что у нее горят глаза. А у нас в семье как-то повелось не запрещать. Очень важно выслушать, очень важно понять, что твой ребенок принимает осознанное решение, и желательно помочь, если ты можешь.
Поэтому ее решение я воспринял достаточно положительно, и ни в коем случае я не мог отговаривать, потому что, опять же говорю, я увидел, что это решение самостоятельно принятое, осознанное, подкрепленное видением ситуации.
— Во время подъема протестных настроений была надежда, что в этот раз все получится или просто настроение, что выступить надо, но вряд ли это что-то изменит?
— Выросло новое поколение молодых людей, профессионалов, убежденных в том, что стране нужны перемены. Великолепная солидарность в первые моменты протестных акций — это была реакция на постоянный обман, я имею в виду выборы. Это, наверное, был тот важнейший триггер, который объединил белoрусов, на основе которого буквально в течение двух-трех маршей проявилась невероятная солидарность, и каждый почувствовал себя частичкой нации. До этого народ был разрозненный, прямо скажем: местечковость, решение каких-то семейных вопросов, дальше это не выходило. И, скорее всего, эта эйфория дала понимание того, что мы можем изменить это к лучшему.
— Эйфория и надежда захватили и вас с Марией?
— Да, у нас был такой момент. Машенька всегда мне говорила: «Папа, никаких силовых решений не должно быть, мы категорически против». Почему? Она мне просто ответила, что тогда мы станем такими же, как существующий режим, которому не до закона, который в миг забывает о ценности человеческой жизни, когда возникает потребность отстоять собственное благополучие.
Но именно прошлым летом у нас была вера, что, благодаря тому, что так много людей объединилось, закон нас защитит. Оказалось, что фактически он как бы есть, но когда наступает ситуация борьбы за власть, он перестает существовать.
— А Мария осталась, хотя ей поступали прямые угрозы и ее просили уехать. Как она объясняла вам, почему она все-таки остается?
— Мне запомнились ее слова: «я не могу поступить иначе, потому что это будет для меня предательством». У Маши обостренное чувство ответственности: коль она взяла на себя обязанности координатора, она действительно не могла перешагнуть через себя. Вот эти ее качества — честность, преданность своему делу и своим друзьям, она здесь стала основой принятия решения.
 Фото: meduza.io
Фото: meduza.io — Вы, как отец, пытались убедить ее, что безопаснее будет уехать?
— Скажем так, убеждать я не убеждал, просто подсказывал, напоминал, что есть вариант, что можно уехать. Но она мне сказала: «ни в коем случае, папа». Потому что это бы было против ее понимания ситуации и ее предназначения.
«Они не понимают, что все изменилось»
— Вам сейчас удается переписываться с дочерью?
— Переписка по нашему законодательству не ограничивается, пиши хоть каждый день по четыре письма. Но Маша получает от меня очень ограниченное количество писем — одно-два в месяц. Первое время я писал ей практически каждый день, а когда понял, что мои письма до нее не доходят, и ее [письма] не доходят до меня, стал писать чуть реже.
Мне приходило по два-три письма в месяц, а она писала мне с декабря месяца каждый день. И сейчас продолжает писать каждый день, хотя я получаю тройку писем в месяц. А 7 сентября у нас с Машей было первое свидание за прошедший год.
— Как вам показалось, она изменилась?
— Вы знаете, я шел, побаиваясь, что растрогаюсь либо не смогу разговаривать нормально. Но как только увидел Машеньку, ее неповторимый громкий смех, ее улыбку, сразу изменилось все.
Она, во-первых, очень красивая, даже в этих условиях она очень хорошо выглядит. Очень подтянута, такая же стройная, симпатичная. Она была очень уверенная в себе. Для меня это было очень важно. Понимаете, если бы я заметил какую-то наигранность ради меня, увидел ее неуверенность, это бы отразилось, конечно, на мне. Но это действительно уверенный в себе человек.
Она уверена в своей правоте, уверена в том, что ее поддерживают не только родители, а все-все знакомые, коллеги. Она увидела, кстати, по государственному телевидению сюжет как возле суда собрались все ее друзья, кто нашел в себе смелость прийти. Их было достаточно много.
Ее поразили аплодисменты, которыми нас с Александром Николаевичем, отцом Максима Знака, встретили, когда мы вышли после оглашения приговора. Это ее очень растрогало. Она не смогла удержать слезы, но это были слезы радости, и мне это было очень приятно.
К сожалению, одного часа нам было мало, чтобы все вопросы обсудить. Мы обсудили ее прошлое, ее настоящее, но до будущего мы не дошли. Я даже не спросил: «Как ты видишь себя вот в новых условиях?», потому что это, конечно, будет этапирование, это, конечно же, новые порядки. Там совершенно другие будут порядки. Там все будет разрешать и не разрешать администрация колонии.
Мы договорились, что оставим это на следующую встречу. Я сейчас пытаюсь добиться второй встречи. Вероятность небольшая, но я пытаюсь, подаю заявления в надежде, что мы еще раз встретимся.
— Вам удалось поговорить с ней с глазу на глаз?
— Это было помещение, разделенное стеклянными перегородками на десять небольших кабинок. Общение происходило по советскому черному стационарному телефону. И вообще, у меня создавалось впечатление, что мы попали в другой век. В прошлый век. Вот эта еще какая-то совковость осталась, вывешенные какие-то нелепые инструкции, о чем ты можешь говорить, о чем не можешь.
Понимаете, создалось впечатление, что мы все изменились, а система, которая сейчас у власти — нет. И главное, они ничего не собираются делать, чтобы что-то изменилось. Их это вполне устраивает. Унижать человека, издеваться над ним, лишать его нормальных условий. Они считают, что человек под таким нажимом примет эту систему.
Они не понимают, что все изменилось. Изменились технологии, изменилось наше отношение к жизни, изменилась молодежь. За это время я узнал, насколько она у нас умная, насколько она креативная. Власть не хочет этого видеть, не хочет это понимать. И это обидно.
— Сейчас, когда есть приговор, когда произошло все то, что произошло, как вам кажется — все тяготы, с которыми вы все столкнулись, они того стоили?
— Да, конечно. Я осознаю, что отступать уже некуда. Самый главный вывод я могу сделать — мы действительно стали нацией. Людьми, которые почувствовали свою солидарность и гордость. Вот это всеобщее настроение надежды на лучшее развитие событий и нашей победы, прямо скажем, добра над злом, оно осталось у всех, обостренным. Это чувство настолько обострено, что я иногда поражаюсь. Я, к сожалению, не умею это описывать красочно, но иногда это такие яркие моменты, которые меня убеждают в правильности и убеждают в том, что все сделано не даром, и все у нас еще впереди. Все самое хорошее еще впереди.
Желание добиться цели, которую мы ставили, оно никуда не делось. Возросла уверенность в том, что надо менять. И как сейчас принято говорить: «Мы ждем того триггера, который обязательно сработает». Вот эта неотвратимость перемен, она для всех нас очень важна.
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]