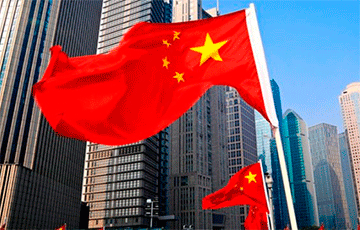Как в СИЗО пугают забвением

Сначала нас лишили писем, потом телевизора и газет.
Много лет назад мой коллега Павел Шеремет — первый из арестованных белорусских журналистов — вышел из Гродненского СИЗО. В то время против меня было возбуждено первое в моей жизни уголовное дело. Павел тогда учил: «Если посадят — запомни: к бытовым неудобствам привыкаешь быстро, вечно горящую лампочку под потолком тоже в конце концов перестаешь замечать. А вот к информационной блокаде привыкнуть невозможно, и они этим пользуются. Если сядешь — тебе, как и мне, будут говорить: «Да вы что, думаете, о вас еще кто-нибудь помнит, за вас борется? Бросьте! Вы же знаете законы информационного жанра. Вы уже позавчерашняя новость, в мире куча более свежих новостей!» Не верь этому».
Прошло тринадцать лет, и я вспомнила те давние советы Павла Шеремета.
Сначала нас лишили писем. Нет, формально мы имели полное право на «получение и отправку корреспонденции в неограниченном количестве», как записано в правилах внутреннего распорядка СИЗО КГБ. Но наши письма будто проваливались в бездну. Каждое утро дежурный забирал их, но до адресатов они не доходили. По вечерам, когда открывалась кормушка, мы с «подельницей» Настей вздрагивали: а вдруг нам, наконец, письма принесли? Нет, снова не нам.
Мы спрашивали начальника СИЗО Юмбрика: «Где наши письма?» Он на голубом глазу отвечал: «Девочки, когда будете отсюда выходить — получите на выходе свои мешки с письмами. Вам действительно много пишут. Но приносить вам письма нельзя. Кровавый режим запретил». И тут же, не удержавшись от профессиональной привычки «гнать дезу», доверительно сообщал: «А вот Наташе Радиной мы письма приносим. Она-то в другой камере, ей одиноко. А вы вместе, вам легче». Уже летом, когда мы с Наташей получили возможность поговорить, оказалось, никаких писем ей не приносили. Она точно так же сходила с ума, не зная, как перенесли случившееся ее родители. И требовала соблюдения своего права на переписку. Ей Юмбрик отвечал: «Писем пишут очень много, каждый день мешками таскают. Но вам всем не положено. Письма еще надо заслужить!» Наташа в ответ посылала в баню.
— И вообще, — говорил ей Юмбрик, — там такое пишут, что читать стыдно!
— Что, например?
— Например, «держись!».
Только в конце января, когда мы начали чувствовать себя сидящими в подземном бункере без всякой связи с землей, нас по очереди вызвал Юмбрик. Каждой было сказано одно и то же:
— Садитесь и пишите письмо домой! Я лично опущу его в почтовый ящик. Только сначала прочитаю. И пишите позитивно.
Мы всё правильно поняли: к тому времени мир усомнился в том, что мы вообще живы. Адвокаты сидели целыми днями в ожидании, что их к нам пустят, — но их не пускали. Письма от нас не приходили — что еще можно было подумать? И информационную блокаду кагэбэшники решили прорвать — разумеется, в свою пользу. Потому от нас и требовали пионерского задора в письмах. Впрочем, это было лишним. Мы так мечтали успокоить своих родных, что в любом случае ни одного плохого слова о собственной жизни в тюрьме не написали бы.
Наташу заставили переписывать письмо, потому что она слишком добросовестно выполнила команду «Повеселей!» и написала маме: «Настроение боевое!» Юмбрик сказал, что слово «боевое» он пропустить не может, и потребовал заменить на «хорошее». Зато мне довелось удостоиться похвалы начальника тюрьмы. Я старательно выводила: «Мама, я здесь не в плену — просто набираюсь нового опыта». Юмбрик одобрительно захихикал: «Ай молодец! Можете же, когда захотите!»
Этот текст мои родители получили очень быстро.
А на следующий день каждой из нас, наконец, прочитали по одному письму от родителей. Правда, нам даже не дали их в руки. Юмбрик с видом фокусника, выхватывающего кролика из цилиндра, доставал письмо из сейфа и читал вслух. С паузами: «Так, этого я вам читать не буду… тут упоминание третьего лица… а вот здесь вообще не нужно…»
Писем нам не приносили, телевизоры из камер забрали на третий день после наших арестов, адвокатов к нам не допускали, чтобы те, не дай бог, не принесли какую-нибудь информацию с воли, а затем пришла и очередь газет. Если наши сокамерницы исправно получали все, что выписывали, то при нашем соседстве и у них начались перебои. Конечно, родные и друзья всех нас подписали на газеты — немногие оставшиеся в живых независимые и «Комсомольскую правду» — для развлечения. Из всего, что мы выписывали, нам приносили только «Комсомолку». Ее мы и читали: про Волочкову, Куршевель и невесту Малахова. Однажды попалась история про родившую пятиклассницу.
— Ну надо же, — прокомментировала молодофронтовка Настя, — а я в пятом классе только на первое свидание пошла.
— Везет же некоторым! — обзавидовалась я. — Меня только в университете начали приглашать на свидания.
— Так ты и села в сорок три, а я — в двадцать, — оправдала мое печальное отрочество Настя.
Из-за нас лишили газет и сокамерниц-«экономисток» — чтобы мы тоже за компанию чего-нибудь не узнали. Лишь одной из наших соседок, законопослушно выписывавшей лукашенковский пропагандистский рупор «Советскую Белоруссию», газету исправно доставляли. И то — не всегда. Если там писали небылицы о нас или громили Запад, который требовал освобождения политзаключенных, даже «СовБелию» не приносили. Иногда, правда, протягивали в кормушку вырванную оттуда телепрограмму.
— Они что, издеваются? — недоуменно спрашивала сокамерница, вертя ее в руках. — Зачем мне телепрограмма без телевизора? Мне что, читать ее для повышения интеллекта?
Откровенно демонстрировать собственный цинизм Юмбрик начал не сразу. Сначала он пытался все валить на цензора. «Понимаете, — говорил он, — здешний цензор не подчиняется администрации СИЗО, он подчиняется только центральному аппарату, так что я не могу ему приказать пропустить ваши письма. Он сам все решает, и если письма не доходят — значит, он в них что-то недопустимое усмотрел».
После такого объяснения я села писать письмо домой: «Дорогие родители! Знаю, что вы не получаете моих писем. Начальник СИЗО сказал, что здешний цензор — очень тупой, вообще без мозгов, вот он и не пропускает наши письма». Дальше еще на две страницы убористым почерком я поносила цензора и весь аппарат КГБ, с удовольствием рассуждая о полном непрофессионализме и непроходимой глупости работников этой системы. Я уже поняла, что письма все равно не дойдут до родителей, но продолжала каждый день с упорством их писать. И в каждом письме упоминала тупого цензора и таких же кагэбэшников. Лишили нас писем — тогда читайте сами все, что мы о вас думаем. Эти каждодневные эпистолярные минуты доставляли некоторое удовольствие из серии «Мелочь, но приятно». Я представляла себе, как завтра все желающие будут это читать, и скромно радовалась. Надо же хоть чему-нибудь радоваться в тюрьме. Так почему бы не этому мелкому хулиганству?
А после Нового года началось то, о чем когда-то предупреждал Павел Шеремет. Меня вызвал Юмбрик и, задумчиво листая газеты, произнес:
— Да-а, Ирина Владимировна… Жаль, конечно, но придется вам, боюсь, сидеть тут долго. Все уже о вас забыли. Вот, революция в Тунисе, теракт в «Домодедове». Разве кто-нибудь вспомнит о вас на таком информационном фоне? Увы… Да и «Новая газета» о вас уже забыла.
— Оставьте эти байки для более доверчивых.
— Да нет, это чистая правда. Знаете, вот ваш главный редактор, между прочим, вышел из общественного совета при ГУВД Москвы. Потому что Немцова посадили на пятнадцать суток. Вот это — новость. А вы — так, вчерашний день.
Спустя некоторое время Юмбрик почему-то счел необходимым мне доложить:
— С Муратовым все в порядке!
— В каком смысле?
— Ну Немцова выпустили, и Муратов снова вошел в общественный совет при ГУВД. Кстати, благодаря вам я тут начал читать «Новую газету». Хорошая газета, отличные статьи. Вот только про вас не пишут. А жаль, я бы почитал.
В то время я не знала, что уже на следующий день после моего водворения в СИЗО КГБ в Минск примчались Виталий Ярошевский и Елена Милашина. Что Ярошевский помогал моей маме тащить тяжеленную сумку с передачей. Что именно он подсчитал шаги от дома моей свекрови до СИЗО КГБ, и получилось ровно 104. Что в Москве мои коллеги стоят на морозе в пикетах возле белорусского посольства с нашими портретами. Что в то время, когда официально редакция была на новогодних каникулах, в Минске мои коллеги работали вахтовым методом. Что после Милашиной и Ярошевского здесь побывали Елена Костюченко, Ольга Боброва, Ирина Гордиенко, Наталья Чернова, а потом еще и Елена Рачева, Павел Каныгин, Ирек Муртазин, сам едва освободившийся.
Они привозили игрушки моему сыну, пили чай с моими родителями и поддерживали их — словесно, морально, эмоционально. Они бились в закрытые двери кабинетов и, не пробивая эти бесполезные двери, все равно работали, и находили нужную информацию, и писали о Беларуси столько, сколько никогда прежде не публиковалось в «Новой газете» о событиях в другой стране. Об этом я не знала, но догадывалась. Кстати, те, кто не приезжал, — просто звонили маме, чтобы поддержать ее. Слова, произнесенные по телефону Викторией Ивлевой, мама передала мне едва ли не в первые же пять минут после моего возвращения домой. Уже потом, сидя под домашним арестом, я получила стопку газет, привезенных из Москвы. С каким наслаждением я их читала! Спасибо вам, друзья. Не знаю, как бы мои родители продержались все это время без вас. Не знаю, как бы я пережила все это без «Новой газеты». Все-таки я везучая. В тюрьме я это поняла окончательно.
Ирина Халип, «Новая газета»
 31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
31.01.2025
Титулованный фигурист-чемпион, выступавший за Московию, погиб во время крушения самолета в США
 31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
31.01.2025
Алексей Протас снова обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]