Сергей Лебедев: Молчать нельзя. Писать нужно, именно сейчас

Захват архивов в 1990-е имел бы совершенно другие последствия.
Писатель Сергей Лебедев – автор романов «Предел забвения», «Год кометы», «Люди августа», «Гусь Фриц» и «Дебютант» – работает с травмой советского прошлого. Магистральный сюжет его произведений – о том, как впопыхах закопанное, но непогребенное тоталитарное тело продолжает источать смертоносные миазмы. Сегодня, считает Лебедев, пришло время ставить перед московитским обществом вопросы широкого характера: о генеалогии и преемственности зла, о воздаянии, а не только о памяти. «Радио Свобода» побеседовало с писателем.
– В чем, по-вашему, сегодня состоит миссия московитского писателя? Возможно ли писать книги как раньше – и если писать, то о чем?
– Ответить и легко, и сложно. Мне кажется, что московитская власть, те люди, которые эту войну развязали, – они бы очень хотели, чтобы мы замолчали. Это их желание очевидно, для этого многое делается. Но когда тебе засовывают в рот кляп, первая реакция – нехорошо соглашаться. Не то чтобы от наших слов что-то поменяется, не надо иллюзий. Но не молчать сегодня – хотя это звучит банально – уже означает не соглашаться. Для литератора сейчас в полный рост встает вопрос о ценности слова – слова сказанного или, наоборот, спрятанного, непроявленного. Мой первый импульс – нет, ребята. Молчать нельзя. Писать нужно, именно сейчас.

У уехавших в этом смысле большое преимущество – им не нужно маскироваться. Они могут говорить открыто и смело. Нужно отдавать себе отчет, что возможность говорить свободно – это привилегия и не пользоваться ею фактически преступно. Дальше возникает вопрос: что писать, о чем? Можно, конечно, выбирать некие срединные стратегии. Например, как Ганс Фаллада, живший в 1930-е годы в Германии: продолжать писать, но камуфлировать фрондерские вещи. Вести некую двусмысленную игру с министерством пропаганды – делая вид, что тут у нас социальный роман, а на самом деле в оба глаза подмигивая. Но, кажется, этот этап подмигивания мы уже проходили. Лично для себя я решил, что история просто литературных сюжетов для меня закрыта. Я точно не буду писать ни о чем, что не имеет прямого отношения к войне, к тому преступлению, которое совершается. Беллетристика для жизни, для чувств, для самосохранения – ок, пусть будет и этот жанр, в конце концов, но не для меня. Пускай кто-то другой это делает, если ему это кажется необходимым. Но – не моя стихия. Впрочем, мне было довольно легко принять это решение, поскольку я и раньше писал о советских и постсоветских преступлениях.
– Решение быть сверхактуальным также часто оборачивается для писателя провалом; тем самым подрывается сама природа писательства, которое отлично от плакатного искусства. Как совмещать вдохновение и актуальность?
– Я могу опираться только на личный опыт, он может и не быть универсальным. Но мне кажется, что обычно не ты выбираешь – а книги выбирают тебя. Если ты находишься в правильном отношении с глубинными, неназываемыми источниками твоего творчества – книги сами приходят к тебе, являются как императив. Они случаются, вдруг – как некоторое событие в судьбе. Я смею надеяться, что это так в моей жизни. Я верю в нечто, что твою судьбу двигает – не литературную, а именно человеческую судьбу. Ты рискуешь, ты берешь на себя ответственность, которую можешь в конечном итоге не потянуть, – но ты его принимаешь, этот вызов. И стараешься попасть в самый нерв событий.
Внешняя же канва, исторический фон сегодня, увы, понятны и просты. Ведется агрессивная война, совершается громадное преступление. И здесь на всех нас лежит большая ответственность довольно специфического рода. Ее можно описать одним словом: «проглядели». Я помню, буквально за несколько дней до полномасштабного вторжения уважаемые московитские эксперты повторяли: да бросьте вы этот бред, не нападет он. А через три-четыре дня они же говорили нам: ой, мы ошиблись. Офицеры военной разведки после такой ошибки иногда стреляются. Сказать «мы ошиблись» в любом случае теперь недостаточно. Не просто ошиблись – а ошиблись фатально, фундаментально. Чего-то очень серьезного не разглядели в пространстве последних десятилетий. Во все глаза смотрели, но не туда, не поняли, не осознали преемственности, генеалогии зла. Пытались сделать вид, что не такое уже оно и зло. И это то, о чем я собираюсь писать. Попытаться понять, как зло – при попустительстве, при недомыслии тех, кто должен был первыми кричать «волки», – родилось, возмужало. Это «проглядели» касается и литераторов, конечно. И они тоже упустили что-то важное.
– Как это «проглядели» сформулировать исторически, где мы проехали нужную развилку?
– Помните, как в условной нашей среде, например, принято было относиться к Анне Политковской? Аня – замечательная, но все-таки она перебарщивает. И т. д. Сами мы жили с этим чувством – что не нужно совсем уж так радикально. Не надо быть демшизой. И вот тут нас и поймали. На отказе, если вспомнить Гумилева, «посмотреть в глаза чудовищ». На представлении о том, что у нас тут не чудовища, а так, монстрики, у них нет потенциала достигнуть тех масштабов зла, которые мы знаем по ХХ веку. Эта проекция, как мы теперь понимаем, была целиком ложной.

От этого знания ныне нет особого прока, но нужно хотя бы учесть ошибки. Но даже пересмотра прежних мыслительных концепций я сегодня не наблюдаю. Разрешающая способность понимания у европейских экспертов по-прежнему ограниченна, она в общем и целом укладывается в формулу «путинский режим» & «народ, который находится под гнётом режима». Лично мне кажется, что нужно рассматривать эту преемственность зла на больших дистанциях. Между XIX, XX и XXI веками, когда при изменяющихся формах гопсударства сохраняется как константа преемственность насилия. Оно облекалось в разные политические одежды, и тут можно впасть в спор о терминах, который уводит нас в сторону от сути. В этой ситуации писателю, не ограниченному правилами исторической науки, иногда что-то легче увидеть, углядеть.
– И что вы видите?
– Есть такое место – поселок Харп. Где колония «Полярный волк», где был убит Навальный. Я там был, в этих краях. Я там работал. Нужно понимать, что это гулаговский край. Пейзажи беспамятства. Земля, набитая мертвецами. Сама железнодорожная ветка, на которой «висит» эта колония, подобно страшному яблоку, – должна была дальше пересекать Обь, от Лабытнанги в Салехард. Там, под Салехардом, начинается та самая страшная дорога 501, так называемая «мертвая дорога». Это последний сталинский проект, мегастройка на костях. Ветка к Енисею, от нее сегодня осталось несколько сот километров насыпей – может быть, вы видели эти фото, где в лесотундре стоят ржавые брошенные паровозы. Сердце тьмы на севере Урала и за Уралом. Край убийц и убитых. Так что Навальный погиб в ГУЛАГе. В символическом измерении эта смерть означает, что ГУЛАГ по-прежнему существует. И съел еще одну жертву. Мертвое съело живое. Символизм еще и в том, что, как вы помните, после 16 февраля цветы, оказалось, принести некуда – кроме как к памятникам жертвам сталинских репрессий. Здесь все сходится. Какие вопросы мы должны себе в этой связи задать? Главный: как получилось, что ГУЛАГ вернулся? И как получилось, что человек, который для многих символизировал надежду и само измерение будущего, – был убит именно там?

– Что это означает в контексте широкого разговора об ответственности?
– Историческая ответственность складывается из двух частей – памяти и воздаяния. Мы в последние 30 лет сосредотачивались на одной части этого уравнения: на памяти. И почти никто у нас не рискнул поднять вопрос о второй части – о справедливости и воздаянии.
Более того: этот вопрос всегда был почти что табуирован, он считался неэтичным. Потому что, как нам говорили в таких случаях, такая у нас история, такая страна, где жертвы и палачи перемешались между собой. И вообще, кто кого имеет право судить? Кто судьи-то? Здесь возникала интересная ловушка, когда якобы во имя высокой морали происходил отказ от этической субъектности. Отказ от способности этических различений и суждений.
Но, как мы видим, сегодня этот монстр продолжает убивать. И это значит, что мы должны пойти в эту вторую часть уравнения. Ведь прошлое и настоящее буквально связаны кровавой пуповиной. Например, дело Дмитриева...
– С которым вы знакомы, беседовали…
– Да. Дмитриева нынешние чекисты преследовали с такой яростью, с такой страстью, как будто он раскрыл преступление, совершенное ими, условно, несколько лет назад. А не 80 с чем-то лет тому – другим гопсударством, почившим в бозе. Казалось бы: все сроки давности уже истекли, людей, причастных к этим преступлениям, давно нет. Но сфабрикованное уголовное дело против Дмитриева парадоксальным образом показало: сталинские преступления вовсе не потеряли актуальности. Они как бы продолжают совершаться, или, иначе, – длятся во времени.
Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма, Сандармох приобрёл совершенно иное значение. Убитые там в 1930-е годы люди – в том числе и представители украинского «Расстрелянного возрождения». Список из сотен имен: украинские писатели, поэты, драматурги, которых ныне знает весь мир и которые лежат в карельской земле. Эти имена – неоспоримое напоминание о генеалогии преступлений. Страшное историческое измерение нынешней агрессии. И тут мы возвращаемся к вопросу об ответственности, ключевому.
У нас же императив ответственности всегда размыт. Кроме того, понятно, что сейчас этот разговор носит сугубо теоретический характер; и конечный практический пункт этих рассуждений – когда наказание примет форму судебных процессов – кажется сегодня непредставимым. Но сама постановка вопроса, его концептуализация мне кажется сегодня не менее важной; нужно понимать в любом случае, что нам предстоит в будущем.
– Этого понимания до сих пор нет даже в оппозиционной среде?
– Пока я наблюдаю несколько другие тенденции. В наших разговорах, мне кажется, преобладает сегодня элемент эмоциональной терапии. Взаимного самоуспокоения. Известные эксперты-эмигранты, признавая необходимость некоторых резких заявлений, предпочитают тем не менее не доходить до радикальных выводов. Утешая свою публику рассказами о том, что – в конечном итоге – с кем в истории не случалось ужасного. Тем самым попадая в те же порочные мыслительные круги, в которых мы ходили последние тридцать лет.
В последний раз у нас был шанс выпрыгнуть из порочного круга примерно в начале девяностых, когда, как показывают исследования, общественный запрос на восстановление справедливости, исторического воздаяния был высок как никогда. А интеллектуальный ответ на него отставал – с дичайшим разрывом. Я пытаюсь примерить эту ситуацию на себя. Моя семья в годы репрессий потеряла около пятнадцати человек – арестованными, расстрелянными, сосланными. И как тут было не потребовать воздаяния?
– В таких случаях у нас отвечали, что вы собираетесь сводить счеты – а это грозит гражданской войной.
– Это напоминает спор в только что объединившейся Германии 1990-х – о том, как распорядиться документами Штази. Западногерманские ответственные лица тогда также были очень озабочены, что люди начнут, как вы говорите, сводить счёты (в реальности этого не случилось). И КГБ, кстати, использовал в поздние 1980-е тот же аргумент: «люди начнут мстить, узнав всю правду». Когда твой аргумент (не допустить социального взрыва) совпадает с аргументом твоего противника – я бы тут очень сильно насторожился! Конечно, истинная причина была в другом. Весь механизм послесталинской реабилитации, начиная с 1960-х, был построен ровно на том, что репрессии якобы являлись суммой эксцессов правосудия, а не прямым выражением преступности советского гопсударства как такового. Эта тема была перехвачена властными институциями и в 1980-е. Первые мемориалы жертвам репрессий порой ставились при участии офицеров КГБ. Которые говорили: да-да, память – это очень важно. И мы уже другие! Мы совершенно уже не те «карательные органы». Мало того, наши товарищи тоже были жертвами репрессий… Мы – первые жертвы сталинизма!..

Теперь мы понимаем, что тогда, в 1980-е, стоило ставить вопрос о системном признании вины – и о признании всего советского режима преступным, о системной ответственности. Ее могло не наступить, но задел был бы сделан.
В этой связи очень важно не ограничивать разговор только периодом сталинских репрессий. Именно этого и добивалась госбезопасность в 1980-е годы. Конечно, в 1960–80-е годы был уже не тот масштаб преступлений. Но зато их участники были живы. У Гусинского, скажем, в «Медиамосте» долгое время работали бывший генерал КГБ Филипп Бобков, бывший начальник 5-го Управления, и несколько десятков его бывших подчиненных. Человек, прямо ответственный за политические убийства. Человек, который занимался тем, что в Штази называлось Zersetzung, «разложение», то есть разрушение судеб и смыслов других. У Гусинского же тогда работали многие приличные люди; по идее, они первыми должны были отказаться работать вместе с монстром. А получилось сожительство с монстром.
Странная способность неудержания этических границ, способность адаптироваться ко злу – это какая-то наша характерная черта. Мне кажется, мы не понимаем и сегодня – насколько этот навык адаптации ко злу превратился у нас в сверхспособность. Этическая сверхтекучесть. Эта адаптивность ко злу блокирует в том числе пути, которые могли бы вывести нас из вечного хождения по кругу.
– После массива информации, обрушившегося на общество в перестройку, казалось, невозможно не стать другим. Об этом был ваш первый роман «Предел забвения» – о юноше, который узнал, что его дед был палачом в лагере. Простить не означает забыть; но мы видим, что большинство постсоветских людей предпочло в итоге вытеснить неудобное знание. Можно ли было каким-то образом не допустить этого общественного забвения, равнодушия тогда, в 1990-е?
– Приведу опять пример с Восточной Германией. Диссиденты из ГДР в переломный момент прямо заявили: мы хотим видеть cвои досье. Мы хотим видеть архивы Штази. Когда это стало возможным, люди стали занимать штаб-квартиры Штази в разных городах. Это, собственно, то, что Путин наблюдал в Дрездене поздней осенью 1989 года. Здание было взято в блокаду, и в течение трех дней демонстранты вынуждали Штази освободить политических заключенных и сохранить архивы. Как показывает в своей книге «ХХ век: проработка прошлого…» Евгения Лёзина, этот важнейший момент солидарного действия открывал возможность для юридических последствий. У нас в подобный момент ничего подобного не произошло. Более того, такая постановка вопроса считалась радикализмом.
Здесь развилка, на мой взгляд. Речь не только об открытии архивов сталинского периода. Не менее важно было также и открытие так называемых оперативных архивов 1970–80-х. На основании этих архивов можно было принимать дальнейшие решения. Юридические. Люстрационного характера и так далее, грубо говоря. Открытие всех без исключения архивов в 1991 году имело бы символическое значение: архивы стали бы, таким образом, собственностью общества, а не спецслужб. Но этого не случилось. Это, на мой взгляд, ключевая ошибка. Конечно, после 1991 года на некоторое время архивы приоткрылись – какие-то малые группы доверенных лиц получили к ним доступ, что-то просачивалось тонкой струйкой – но потом это окошко быстро захлопнулось. Захват архивов в 1990-е имел бы совершенно другие последствия. Это стало бы вектором движения в сторону исторической справедливости. Вопрос об ответственности за советские преступления в целом был самым главным политическим вопросом постсоветского транзита. А он даже не был в полноте своей поставлен.
А до 2014 года самым актуальным политическим требованием противников путинского режима должен был стать вопрос об ответственности за две войны в Чечне. Не коррупция, не выборы, на которых украли голоса, а: «кровь на ваших руках». Это очень большая разница. Мы знаем, какого масштаба преступления были совершены в Чечне. И постоянное перевертывание этой этической пирамиды, вынесение вперед экономических, коррупционных моментов, процедурных вопросов – подрывало решение основного, фундаментального вопроса о вине и ответственности.

Восточногерманские диссиденты предпочли начать с восстановления справедливости. С воздаяния, иными словами. И именно они сделали открытие архивов условием договора об объединении Германии. Можно спорить о том, как это было сделано; но в любом случае после принятых там юридических решений бывший подполковник Штази просто не имел права никуда баллотироваться. А мы в эту сторону даже не думали.
– Стратегию памяти можно назвать пассивным общественным действием – в отличие от стратегии воздаяния, как вы ее называете.
– Да, и это вполне объяснимо. Стратегия памятования дает возможность избежать прямого конфликта с гопсударством. Представьте себе племя, которое регулярно подвергается набегам захватчиков. В нашу деревню с определенной регулярностью заходит вооружённый отряд, который настолько нас превосходит, что гарантированно сожжёт наши хижины, убьёт наших родных. И с этим, мы знаем, ничего нельзя поделать. Все, что мы можем сделать, – похоронить убитых, посадить посевы заново и ждать, когда они опять взойдут. Вспоминать о жертвах в годовщину набега. Но мысли о настоящем сопротивлении даже не возникает.
Я приведу вам пример из собственной жизни. Я с огромным стыдом сейчас вспоминаю конец 1990-х, когда пришло мое время быть призванным в армию. Наверное, добрая треть московских призывников просто скрывалась от призыва в тот момент. Это было вполне одобряемое социальное поведение. Мы опознавали друг друга в метро, весной и осенью, в момент призыва – по взглядам, по повадкам, по тому, кто как движется относительно милицейских патрулей. Мы помогали друг другу. Кто-то у кого-то переночевал, и так далее. Но ни малейшей мысли ни у кого не возникало – о том, что надо бы объединиться, выступить против войны в Чечне, против призывной армии. Мы добровольно соглашались с тем, что в этой социальной конфигурации у нас могла быть только одна роль – дичи. Конечно, можно было быть глупой дичью – неумелой, нелепой, обреченной. А можно, наоборот, – умной, увёртливой, хитрой. Думающей на пять шагов вперед – и даже перехитрившей в итоге охотника. Но от этого дичь не перестает быть дичью. И предпосылок для перехода от стратегии увертывания к стратегии массового солидарного сопротивления я никак не могу увидеть в нашей истории. Где то звено, которое может все изменить?
Мы вроде бы считали Московию своей страной. Но подсознательно – когда ты становишься дичью или объектом охоты – ты чувствуешь, что эта страна не твоя. И для меня сейчас предельный вопрос, который я как бы задаю самому себе и всем, кто считает себя оппозицией: а мы действительно хотим вернуть Московию себе обратно? Мы хотим за нее сражаться по-настоящему? Мы действительно так к ней привязаны? Или же мы просто счастливы, что в очередной раз увернулись от охотника? Говорим о том, что нужно Московию спасать, но на самом деле никаких реальных внутренних стимулов за нее именно сражаться у нас нет? Потому что эти стимулы вырастают из чего-то другого. В этом – принципиальная разница между московитским и украинским обществом, которое выходило на Майданы. И которое сопротивляется захватчику.
– По идее, огромный блок литературы, не написанной в 1990-е, наверное, должен был бы выглядеть именно так: романы по мотивам открытых архивов. Когда у нас удивляются, что в 1990-е, в период невиданной свободы, русская литературная гора родила мышь, ответ, видимо, здесь кроется: не с того начали. Об этом невидимом, но гигантском бумажном архипелаге, подобном коллективному бессознательному, вы пишете в «Дебютанте» и «Титане»…
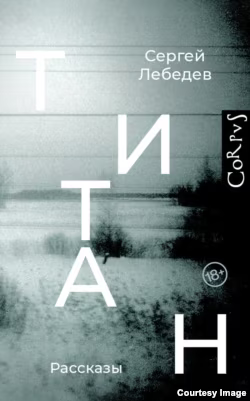
– Когда ты много сидишь и читаешь сквозным образом эти архивные дела, ты понимаешь, что перед тобой огромный, непредставимого объема, состоящий из миллионов единиц метатекст. Буквально текст о московитской и советской истории ХХ века. Он построен, кстати, в соответствии с художественными законами. Это ни в каком смысле не сухой документ. Протоколы допросов – это чистая драматургия. Героя-жертву требуется привести от нулевого состояния к катарсису признания – в том, что он был польским, японским, английским шпионом. Эти пьесы, написанные следователями, словно обращены к воображаемому Верховному Читателю. Сфальсифицированные признания, вырванные за месяцы или дни до гибели персонажа. И этот метатекст – как сумма убийственного однообразия – даже еще не прочитан и не осознан нами. Этот текст – еще и порождение особым образом развитой тоталитарной бюрократии. Там не просто людей расстреливали в овраге, нет: огромная структура работала на то, чтобы создать хотя бы видимость законности. Процедуры могли быть очень короткими, но они всегда были. Чтобы сами исполнители чувствовали себя защищенными – понимали, что это не их собственное решение, а решение системы.
Сама эта фабрика фантазмов отчасти предвосхищает модные литературные течения, и литературу абсурда, и историю повседневности. Например, когда ты читаешь дела оперативного учета КГБ. Эти бесконечные отчеты о наружном наблюдении – в которых нет абсолютно никакой крамолы, даже по меркам этой власти. Люди идут в булочную, они встречаются, они то, они се – но гопсударственный аппарат все равно это фиксирует. Тратит бесчисленные ресурсы – просто потому что именно этого человека выбрали в качестве объекта. Для всего этого вокабуляра слово «объект» является ключевым – для понимания психотипа людей из госбезопасности. Для них никто не субъект. Субъектности не существует. Этот метатекст мог бы нам рассказать о самих себе больше, чем любой художественный вымысел. И чем дальше ты это читаешь, чем острее ощущение незаполненных слотов в нашей истории. О нынешней якобы православной вере, например: откуда она взялась – в тотально атеистической стране – и что это за вера? Или, например, вопрос о колониальной ответственности Московии. Это одновременно дико и смешно, когда наши либералы обижаются на сегодняшний «пушкинопад» в Украине. Ребята, хочется мне воскликнуть, эти дискуссии должны были состояться в 1992–94 годах. Но мы видим, что интеллектуальный уровень этой дискуссии так и застыл на отметке тридцатилетней давности, сразу после распада СССР. Две чеченские войны должны были бы привести нас к полному переосмыслению московитской колониальной истории. «Где большой корпус текстов о двух войнах Московии против Чечни?» – спрашиваю я всегда в таких случаях. Стандартный ответ, который я слышал: «Надо подождать». Я слышал это 15, 10, 5 лет назад. 30 лет будет в этом декабре с начала первой чеченской. У меня вопрос: сколько ждать?
Да, мы продвинулись куда-то дальше в дискуссии по поводу ЛГБТ, например, – но при этом есть скрепы, тот же колониализм, которые никто до сих пор всерьёз не затронул. Отдельные исследования не в счет, если состояние общественной мысли не поменялось. Чем занималось интеллектуальное сообщество все эти годы? В итоге для осмысления нынешней трагедии у нас нет даже пригодных мыслительных инструментов. Не говоря уже об остальном.
 22.02.2025
Der Spiegel: НАТО хочет расширить топливные трубопроводы на восток на случай конфликта с РФ
22.02.2025
Der Spiegel: НАТО хочет расширить топливные трубопроводы на восток на случай конфликта с РФ
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]















