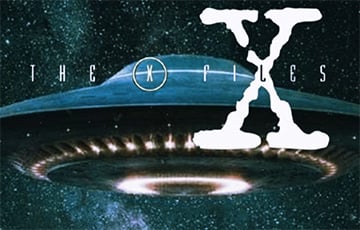Курск, Еленовка, Тула: как выглядят плен и пытки для украинцев

54-летний гражданский украинец рассказал жуткие подробности.
Возили в рефрижераторе без воздуха. Морили голодом. На допросах искали информацию про боевых комаров. Издевались, требуя петь «Я русский». И всегда били смертным боем.
Вячеслав, не был военным: он в начале войны просто попытался приехать из Киева в Мариуполь, чтобы забрать семью из-под обстрела – и был похищен на одном из блокпостов.
Журналисты SOTA поговорили с Вячеславом в Вильнюсе, где на прошлой неделе он встретился с адвокатом Дмитрием Захватовым, принимавшим участие в его судьбе во время московитского плена:
— Меня зовут Вячеслав. Сейчас мне 54 года. На момент начала боевых действий мне было 52. Я работал механиком – это мой основной род занятий. И так получилось, что 24 февраля, когда началась война, моя семья находилась в Мариуполе, а я – в Киеве.
Каждый, кто пережил какие-то потрясения, находил что-то мистическое в этом всем. Я потом встречался с разными людьми, лежал в больнице, в госпитале с ранеными. Может, это свойство психики, а может, действительно это так. У всех находилось что-то мистическое. Вот я в 4 утра вышел на балкон – я не курю, просто встал с кровати – и у меня было странное ощущение. Я никогда так не потел, то есть у меня почему-то где-то в районе шеи были странные ощущения. Это было как-то удивительно. И тут начались прилеты. Ракетный обстрел, зарево. Я начал звонить всем своим, сказал, что началась война. Тут же вырубилась вода, я взял канистры, вышел за водой. Это был первый день. Полная неразбериха, ничего не понятно. Моя семья находится за 800 километров. Мы как-то связались с женой. Я говорю: «Что делаем? У меня машина, я могу приехать, вас забрать». Она говорит: «Ничего, тут невозможно проехать, заторы. Люди заезжают, выезжают, какие-то боевые действия рядом идут. В общем, все будет нормально, не переживай».
Но Мариуполь быстро попал в окружение, температура ночью была -10. Буквально неделя, а в городе уже не было света, ложилась связь, никто дозвониться никому не мог. Быстро выяснилось, что был перебит газопровод.
Конечно, вся эта мариупольская история сейчас не производит такого впечатления. Но такого, как с Мариуполем, не было нигде. Люди просто не могли выехать. Была полная блокада. Боевые действия шли через весь город, бомбила авиация. Там сняли фильм «20 дней в Мариуполе», который получил «Оскар». Он снимался в нашем районе. Это все было от нас буквально в 10 минутах ходьбы, и даже на одном кадре виден наш дом. То есть там творился этот кошмар и не было связи.
Соответственно, я решил самостоятельно ехать. Когда доехал до Запорожья, меня долго не пускали. У меня был микроавтобус, я думал забрать семью и еще людей, так как было понятно, что они не могут выехать. Меня долго не пускали, а потом, в один день, жена вышла на связь, и сказала, что они живут в подвале. Еды нет, воды нет, самостоятельно они выехать не могли, никакой эвакуации не было. Это первые дни войны, первая неделя. Боевые действия были под Киевом, везде по всей стране что-то пролетало, падало.
И я когда проезжал Орехов, попал под минометный обстрел. Стреляли по блокпосту, где стояли наши машины, мина упала рядом буквально в метре от машины и попала не на асфальт, а в обочину. Если бы она попала на асфальт я бы не доехал, конечно, никуда.
Солдат мне махнул, мол, проезжай, и я поехал. Потом я выехал опять не туда, под украинский танк, под блокпост, под БТРы. Это все под стволами, под автоматами. Тебя вынимают, все пересматривают, спрашивают, куда едешь. Ну, я объяснял, что у меня семья в Мариуполе.
По дороге несколько раз останавливали. Я где-то прочитал, что если взять пару блоков сигарет и раздавать солдатам, то к тебе будут лояльнее относиться. Я тогда начал курить, вышел с солдатами, они сказали, что им дали команду стрелять по всему. Я видел расстрелянные машины и прикопанных людей по дороге.
Потом меня остановили на блокпосте ДНР, взяли телефон и нашли там карту боевых действий из интернета. Мне ее выслал мой близкий друг, он сам с Мариуполя. Там карта, которую он как ребенок нарисовал, просто красная стрелка, синяя стрелка, какой-то район подписан.
И ко мне возникли вопросы. Меня задержали. Дальше ситуация только ухудшалась.
Попадание в плен
Я думал, приедет командир, задержали солдаты, и он как-то разберется. Командир приехал, он был какой-то очень злой. И они, знаете, как в книге Богомолова «В августе сорок четвертого» – они, наверное, все ее читали, – начали допрос с пристрастием.
Он стал стрелять возле моей головы, возле коленей, дулом своего Макарова разбил мне лицо. И все: «Ты шпион, ты нам все расскажешь. Садись, пиши». Нас задержали четверых: двое оказались солдатами, которые выходили из окружения, и еще один гражданский. В этом селе, где мы оказались, мы уже копали себе могилы. Это была ДНР. Мне там запомнился один персонаж, у него был плащ, на котором был октябрятский значок. То есть лицо пропитое, они с Горловки откуда-то, эти орлы.
Ну, я понимал, что здесь шуток нет, и тут, как говорится, скорее всего, я и останусь. Желание расстрелять у них было. Это не то что мой испуг, я уже взрослый человек, я понимал, что, может быть так, может быть и так. Потому что второму человеку, мужественный был мужик, конечно, светлая ему память, прострелили ногу, когда он копал эту могилу. Там наша жизнь уже ничего не стоила. Я понимал, что я никуда не доеду.
У них очень чесались руки, но они сказали: «Ну, если бы не приказ, мы бы сейчас пошли пить водку, а этих бы положили. Зачем они нужны».
Ночью избивали этих двух солдат, которые выходили из окружения. Меня не трогали, но там буквально на следующий день сказали: «Отвезем в комендатуру, там с тобой разберутся». Связали, засунули в автомобиль Fiat Doblo, пикап, там есть такая сетка для собак. Вот нас туда четверых и забили связанных. И повезли. По дороге у них сломалось колесо, и они заехали бортироваться, а нас, чтобы куда-то деть, засунули в собачью клетку, метр двадцать, для крупных собак. Это было на каком-то предприятии. Там уже были, по-моему, русские военные, ну и они подходили, издевались, называли хохлами, хотя сами с Горловки частично, как понимаю.
Была эта ретрансляция русского телевидения в их разговорах, вера в то, что они пойдут завтра по Крещатику, ну, вот это какое-то тотальное безумие. «Почему вы не вышли, не остановили войну на Донбассе?»
Все, что говорит пропаганда, они только это и воспринимают. У них нет альтернативной точки зрения.
Я им говорил:
– Хорошо, ну, у тебя там война, а я тут причем?
– Ну, а почему ты не вышел?
– А ты бы вышел?
– Ну, если бы у меня там что-то... Ну, вот я тут с оружием.
Там была такая история веселая, потому что я нашел постарше себя мужика, который, вроде как, воевал в Афганистане, он меня охранял.
Я говорю:
– Я не хочу в плен, давай тут закончим.
– Скажут – расстреляю.
Я был в отчаянии. И я понимал, что плен — это, скорее всего, унижение, и переживу я его или нет, мне было тогда уже безразлично.
Дальше попали в комендатуру, нас там приняли «душевно» – избили еще раз. Ну и начались эти все допросы.
Там у них военная разведка, какой-то предвзятости особо к кому-то нет. Они захватили какую-то часть территории, дальше идет фильтрация, так она, наверное, называется. Но если попал к ним в поле зрения, выхода уже нет. Эти случаи, когда человека отпустили, они единичны. Надо быть или умалишенным, или не представлять из себя никакой угрозы. Потому что вот эта вся история, я уже потом над этим думал, выяснял, она многоуровневая. Отпустить тебя просто так никто не может.
В моем случае я умолял меня отпустить забрать жену и ребенка, говорил, что им грозит смертельная опасность. На самом деле, так оно и было. У них не было ни воды, ни еды, город разбит, брать это все неоткуда. Будущее тоже неизвестно какое, выехать оттуда невозможно, все заблокировано. И они вроде говорят: «Да, отпустим».
Потом приехала машина и появились какие-то новые охранники, нас всех – гражданских, военных – согнали в один зал, уложили на пол. И я помню, ходил такой молодой, лет 19, откуда-то с Кавказа, нервный такой тип. Он все время клацал затвором и бил ногами. Или у него действительно чесались руки, или у него не в порядке с головой.
Мы лежали плотно, по команде просили разрешение перевернуться, но в таких условиях я даже умудрился заснуть. То есть у меня со времен плена выработался, как у компьютера, reset. После побоев или когда сильно устал, ты просто вырубаешься в любом месте, буквально на минуту, может быть, на 30 секунд. Но после этого ты более-менее восстановился. Это все физиология, предчувствие какой-то беды.
Потом я очень много обращал внимание на какие-то такие вещи. Когда большой уровень адреналина, стресс, у человека все работает по-другому, абсолютно по-другому ты себя чувствуешь. Это когда уже была возможность в нормальной жизни делать какой-то анализ.
Разговаривал с людьми, которые тоже нечто подобное пережили, и самому пришлось подумать.
Приехала машина утром, нас всех связали, загрузили в КамАЗ. Тогда у меня появилась возможность, я развязался, подумал, может, можно бежать. За нами ехал броневик «Тигр». Кто в тех краях был, тот знает, что там есть такие места, где до ближайшей посадки метров 200, и это просто ровное поле. Я ждал поворот, уже мог там брезент раскрыть, соскочить. Я думал будет поворот, Броневик отстанет, я выпрыгну.
Там все шушукались, что «не надо, не надо». Но у меня была какая-то тяга к воле, какое-то желание.
Не получалось. Они сокращали дистанцию, как только машина заходила в поворот. Потом нас пересадили где-то в каком-то месте, подогнали другую машину. Там уже было слышно взрывы, выстрелы. Где-то упало, это было близко к фронту. Не знаю, где это все происходило, не было возможности видеть.
И вот нас человек 25 или 27 пересадили в изотермический фургон, где очень быстро закончился воздух.
Изотермический фургон – это фургон для перевозки, допустим, замороженных продуктов. Что-то вроде термоса. Он закрывается плотно. Если его закрыть, то он будет держать температуру. Если мороженое положить в термос, оно будет оставаться холодным. Соответственно, в фургоне нет притока воздуха, одна и та же температура. И мы начали задыхаться. В бессознательном состоянии нас выгрузили уже в Донецке. На мне была безрукавка, ее можно было выжимать, с нее лилась вода. Мы дезориентированы были полностью.
Там нас закинули в какие-то камеры, в которых тоже были украинские пленные – гражданские, военные, все вперемешку, весь микс.
Люди выходили с Мариуполя, их там взяли, например, из-за военного билета, потому что служил в армии. Все были по разным причинам. Примерно такого возраста, который позволяет служить в армии.
Там я пробыл буквально два дня. Один раз меня вызвали на допрос, какой-то молодой парень, лет 26, показал фотографию такую, снятую на мыльницу, как мне показалось. Там какие-то ребята с украинским флагом.
– Знаешь кого-то здесь?
– Нет, никого.
Ну, он достает пистолет, приставляет мне к голове:
– А так вспоминаешь?
– Нет
– Знаешь, что это?
– Пистолет.
– За что тебя взяли?
– Ехал за семьей в Мариуполь.
Он так вздохнул, говорит: «Ладно, пошли». Отвел меня и больше ко мне интереса такого не было.
Плен в Еленовке
Потом я попал в Еленовку, на всех собрали, перевезли. Я там оказался чуть ли не в первых рядах, нас было 600 человек. Через две недели, когда оттуда вывозили уже в Московию, нас было 2000. То есть большое количество людей попало в плен, большое количество людей попадало и дальше, потому что ставились блокпосты, проводилась фильтрация. Кого-то убивали прямо там, на блокпостах, кого-то отправляли разобраться.
И люди были разные. Там был парень, он и сейчас где-то в плену. Насколько было понятно, он не военный. Он вообще музыкант, у него татуировка Губка Боб. У него просто отжали машину Passat B7, пробег 6 тысяч, что очень мало по нашим меркам. И вот машину потом видели где-то в продаже. Парень был такой заводной, он смог сдерзить, и я думаю, что это сыграло не последнюю роль в его судьбе. Я его вышедшим из плена не видел в списках. То есть он где-то до сих пор на территории Московии, видимо.
Истории военных я опущу, потому что, как это ни звучит неприятно, это часть их профессии. Попасть в плен может любой человек. Украина берет в плен московитов, московиты берут в плен украинцев. Это для войны, наверное, дело обычное. Но условия, конечно, – это другой расклад.
Я буду останавливаться на гражданских, на тех случаях, которые я знаю, и хочу отметить, что у меня есть свидетели, и эти люди тоже подтвердят, что они этого человека видели и повторят мои слова. То есть я ручаюсь за то, что говорю. Такие истории невозможно выдумать.
Были люди, которые обходили блокпосты и вызывали подозрение, их забирали, они попадали в Еленовку, были люди, которых просто задерживали, были люди, которые пытались выехать.
Вот, например, мы потом искали родных, знакомых в разных группах по Мариуполю и были люди, которые просто уехали и исчезли. То есть они не доехали. Возможно, понравилась машина, их всех расстреляли. Это в тех условиях у меня не вызывает удивление. Для меня это, конечно, не обыденность, но то, что такие вещи происходят и происходили, тут ничего такого необычного. На огромный простор вырвалась армия, которой разрешили практически все. И этот беспредел по отношению к местным, неприятие местными, митинги, когда дети кидают зажигательную смесь в танк, оно, соответственно, вызывало обратную реакцию. Никакого хлеба и соли не было.
И, естественно, вот этот страх, то, что движет человеком, нормальный инстинкт смерти, нежелание быть убитым, он шел в агрессию. Это все выплеснулось на невинных людей.
Там такая атмосфера была, честно говоря, люди думали, что нас обменяют, вот мы попали в плен, и военные, и гражданские. Ну, гражданские так вообще считали: а зачем мы им? К тебе вопросов нет, тебя никто две недели не трогал, не подходил. Раз вызвали, что-то сверили, что-то записали, на этом все вопросы закончились. Какой смысл тебя держать? Это первое, что было.
Каждый человек выстраивал какую-то логику. Чего они хотят? Взяли, задержали, ну а дальше? Мне же надо куда-то там. Такая наивная мысль существовала у всех.
Ну, военные, конечно, тоже рассчитывали на обмен. Военные же разные. Это и молодые ребята, которые всего год из дому. И для них эта среда, конечно, была гнетущей. Начали ходить слухи об обмене. Приехали фсбшники в балаклавах, которые скрывали лица, тоже говорили: «Вы поедете на обмен». В бараке, где я находился, было около 200 человек. И первую партию, по-моему, забрали 14 апреля. Был такой накал страстей. Одного парня, помню, его фамилию не назвали, а рядом кого-то назвали, и у него слеза побежала. То есть он думал, что его товарищ домой поехал. Мы с ним встретились потом в Курске, и когда я узнал его на допросе, обратил внимание, что его голова была полностью седой. То есть он уже поседел за это время.
Мы поехали во второй партии на следующую ночь. Причем там были люди, которые перешли на сторону Московии, начали сотрудничать, они наотрез отказывались куда-либо ехать. Они оставались.
Всех загрузили. На обмен это не было похоже с самого начала, потому что, когда нас грузили, они сказали сесть на пол КамАЗа, мол, для нашей безопасности. Всех фотографировали по очереди. Сажали так, что мы расставляли ноги и руки подмышки. Позже прочитал, что этот метод посадки называется «елочкой» в НКВД. Когда твои руки подмышками у человека, который находится впереди, застегиваются наручники, а наручники, если вы не знаете, имеют свойство затягиваться, если вы двигаетесь. А машина прыгает на ухабах. В общем, вся вот эта масса – нас там было 40 человек в машине, это, грубо говоря, 3 тонны – двигается, болтается, и наручники затягиваются.
Стоит дикий крик, ехали мы всю ночь по ухабам. Приехали в Таганрог на военный аэродром. Эта хитрость, что мы едем на обмен, сработала: все были настолько обезволены, что был всего один охранник. И когда они останавливались на каком-то посте, у него была рация, он говорил: «Пленные едут на обмен». То есть это было сказано по рации, чтобы не было никаких движений.
Конечно, кто кричал, кто плакал, кто мочился под себя в кузове – это все жуткие воспоминания. У меня наручники сильно затянулись, но я решил терпеть, кричать было бессмысленно, думаю, будь, что будет.
Потом, когда мы приехали, было тяжело выйти из машины, все болело. Нас начали выкидывать как кули, со всех сняли наручники, а с меня не смогли, то есть они настолько защелкнулись. Я уже, честно, попрощался с рукой. То есть я ее потом месяца три там разными своими какими-то способами разрабатывал, сейчас все в порядке, но это было очень болезненно. Я думал сухожилия отомрут, пережаты.
Сняли наручники где-то минут через 15 только. Подобрали какой-то ключ.
И вот ирония: это война, мой ребенок где-то там под бомбами, а я поднял глаза и вижу, как взлетает звено сушек куда-то туда, на Мариуполь, бросать бомбы, где мой сын. Это надо пережить. Только так я могу как-то это все донести, чтобы человек понял.
Затем нас погрузили в транспортник Ил-76, набили и на второй этаж, и на пол, и на боковые. Все это с пинками, с гарканьем, чтобы никто не дергался. Он долго летел, что-то облетал. Прилетели мы на аэродром.
Ну, соответственно, понятно, что когда стоят машины УФСИН, эти серые воронки, то там уже далеко не обмен, ты приехал куда-то в другое место. Мы не знали, куда мы попали, нас засунули в эти машины, тоже с пинками, все с согнутыми спинами.
СИЗО в Курске
Мы из Еленовки выехали где-то ночью, в 12, и все это время не пили, не ели, были морально вымучены, уже просто шатались. Потом нас привезли, как выяснилось, в Курск. Уже был слышен лай собак, это оказалась зона, точнее Курское СИЗО-1. И там нам устроили приемку.
Я видел, наверное, за плен все человеческие пороки и слабости. Нам пришлось пережить самый настоящий голод, постоянные побои. Это настолько деморализует многих людей, что они сразу начинают падать на колени, меня это как-то даже заело. Когда начали всех избивать, ставить на колени, бить прямо у выхода, там, где у них дежурная часть, я сказал: «Почему вы нас прессуете, что происходит, в чем дело?». А от них от всех разило перегаром. То есть им, видимо, дали допинг для того, чтобы они были посмелее и им было азартнее нас бить. Ну, все были пьяны, не так, чтобы там с ног валило, но такое ощущение, что человек грамм 200 принял. Они били, били, и один обратил на меня внимание: «Ты самый умный? Чего-то хочешь?». Я говорю: да, хочу. У было состояние, когда, с одной стороны, уже все равно, с другой идешь ва-банк: вдруг я ему что-то скажу, может, что-то изменится, ситуация разрулится – такое наивное это все.
Он меня повел куда-то в отдельную камеру. Я не могу сейчас точно сказать: или я шатнулся от усталости, или он меня толкнул, но там была камера обита железом в три миллиметра, я рассек голову, у меня остался след. На голове много кровеносных сосудов, тонкая кожа, было много крови. Я нагнулся, в ладони крови набрал: он расстроился, хотел меня отдельно избивать. Они там творили чудеса: согнутых креветкой людей накладывали в два этажа, избивали, стоял постоянный крик. Не потому что человек слабый, просто когда бьют неожиданно, сильно и больно, ты рефлекторно кричишь. Ты понимаешь, что это не крик трусости, а именно избиваемого человека, и это тоже на подсознание очень влияет.
И я помню, он так расстроился, потом пришел второй, сказал, что я хитрый очень, спрыгнул с экзекуции. Ему пришлось меня отвести меня в санчасть. Может быть, из-за того, что они боялись пачкаться, крови было много. Медицина Курска мне запомнилась особой брезгливостью. Не знаю какой пропагандой накачали эти женщин, работниц, но к нам они относились с брезгливостью. Как будто это не те люди, которые защищали свою землю или выкраденные с Украины украинцы, а мировое зло. Она мне намотала что-то на голову: ничего страшного, иди. Эта история с разбиванием головы меня в чем-то спасла, потому что всех остальных били до утра, меня там только еще пару раз пнули.
Может, они пачкаться не хотели, я где-то читал, что таких агрессивных людей со слабой нервной организацией, маньяков и прочих останавливает вид крови. Что они сами пугаются того, что делают.
Потом много чего было, нас водили в разные кабинеты, мы стригли ногти якобы на ДНК, причем это несколько раз делалось, в разные какие-то инстанции, а может эти подписанные пакеты потом выкидывали, я не знаю. Я ничему не удивлюсь. Сдавали отпечатки пальцев, были какие-то блиц-допросы, еще что-то. Потом мы шли мыться в душ. Это отдельная тема. Электрошокер, холодная вода. Потом по-пластунски надо было доползти до какой-то комнаты, где сидел воняющий перегаром этот их УФСИНовец, который давал форму. Короче, где-то к утру все-таки все попали в камеру, даже удалось минут 10-15 поспать.
В Курске это был отдельный этаж в этом СИЗО, спецпост вроде называется, который был выделен исключительно под украинских военнопленных.
Утро начиналось там в 5-6, подъем, дальше было пение гимна. Все зависело, конечно, от самодурства того, кто в коридоре. От того, насколько ему интересно измываться и издеваться. Там были разные шлягеры. «Я русский» – этот популярный хит надо было петь.
Камера была рассчитана на человек семь, нас было 14, просто сдвинули и поставили койки, места не было. Видеонаблюдение. То есть кто-то смотрел все время, если не пел, человек не открывал рот, как им казалось, могли выдернуть и избить. Избиения были утром на проверке и вечером.
Со мной был гражданский с Волновахи. Это тоже жуткая история. Мало того, что у человека диабет, эти раны от наручников у него не заживали очень долго.
Он вдобавок еще и таких взглядов промосковитских… Ну, Донбасс – это вообще отдельная категория. И он работал до войны начальником почтового отделения, коммерческой почты. Он просто мирный, у него сестра и племянник погибли, когда Волноваху эту выровняли. Потому что Волноваха, за ней Мариуполь, это те города, которые разбили вообще. И тело племянника он не успел похоронить, его где-то там за что-то задержали, отвезли в комендатуру. Когда этого человека били, у него кишечник не мог остановиться… Каждый раз он стирался после этого., настолько животный страх у него был перед избиениями. И это было и утром, и вечером. Это обязательно на построении, нас ставили на растяжку, пошире, и били по суставам. Там сломали одному человеку ногу, и он до сих пор в плену. Те люди, которые освободились позже, которые с ним еще год пробыли, сказали, что у него очень плохо со здоровьем, с ногами в частности.
Курск – это было направление, где оказались пленные, куда заходила русская армия в первые дни, там они набрали гражданских в Черниговской области, Киевщина, Ирпень. По-моему, там с Донбасса оказался только я гражданский. Были и с Запорожья. То есть везде, где они были, оттуда и появлялись гражданские в плену.
Вызвали на допрос в Следственный комитет, там был следователь такой, он меня выбрал, потому что ему было интересно пофилософствовать. Я подходил ему по возрасту. И он начал разглагольствовать: «Правый сектор» и так далее, начала как обычно нести эту их ахинею.
Спрашивал, входил ли в Правый сектор, выходил ли, когда они по улице ходили, показывал ли несогласие.
Я говорю: «Слушай, меня это вообще не касается, кто там с чем ходит, я живу просто». Потом он достал из интернета какую-то фразу, приписываемую Бисмарку: что-то типа «хохлы являются зачумлённой нацией». «Вот, это Бисмарк о вас написал, как вы смеете нам сопротивляться?»
Хочу добавить, что у человека стоял бюст Сталина на столе и висел его портрет.
Потом, пока мы сидели, где-то был такой «бух». Он и говорит, что это «Искандер» полетел на Харьков. – Но там же люди?!
И вот здесь был такой интересный момент. Сейчас я, конечно, могу улыбаться, с иронией, все вспоминать, но все, что я буду рассказывать, оно, может, выглядит сюрреалистично, но это все было всерьез и не смешно.
Он встал и закатил глаза и так патетически сказал: «Мы будем разбивать ваши города, пока вы не сдадитесь».
Я подумал, что он сумасшедший, просто идиот. Нормальный человек не в состоянии такие вещи произносить.
Дикостью отличался и УФСИН. Его спецназ – это каждый день какие-то допросы, поиски татуировок, каждый день били. Давали есть, да, согласен. В Курске голодом не морили, еда была, конечно. В душ никто не ходил, потому что там можно заработать шокером, мылись под краном. И у меня тогда сложилось ощущение, что они не знали, что с нами делать. То есть люди приходили с допросов, им все говорят: «что спрашивали? – Искали биолаборатории с комарами».
То есть приехали следователи прикомандированные, они представлялись как с Ленинградского военного округа. Ленинградская область где? А где Курская? Приехали искать боевых комаров. И они не находили их. Вот это изумление постоянно: «А че ты, не нацист?»
Максимум, кого они находили, это человека с националистической татуировкой, такому человеку было очень плохо.
В Еленовке был один парень, он освободился из тюрьмы в Донецке и у него была свастика. Я не знаю руническая ли, в одну сторону или в другую, я не разбирался. Он чисто уголовник, просидел, к армии вообще никакого отношения не имеет. В Еленовке ему ее выжгли горячей кружкой, у него все это вечно текло, струпья, его били за татуировку в Курске. Постоянно были слышны в коридоре вопли, крики.
Потом, когда он попал с нами уже в следующую тюрьму, над ним тоже измывались, издевались, он уже не знал, как доказать, что ни к чему не причастен.
Дальше я уже начал понимать, что им вообще все равно, из-за чего издеваться. Им главное причина, если ты там, это уже она и есть. Я думаю, даже если бы туда попал какой-то их родственник, мама, то все то же самое бы было. Этих людей отбирают по самым низким качествам. Потому что все, что они творили потом, то удовольствие, которое они получали от этого – это нормальному человеку не присуще вообще. И они нам все говорили, следователи вот эти все, что «вас обменяют, вы тут не нужны, зачем нам вас так много», но потом что-то пошло не так.
Пытки и допросы в Туле
А пошло следующее: Московии пришлось откатиться с Киевской области, выйти с Черниговской, то есть сделать жест доброй воли. И вопрос, я так понимаю, и обмена, и что делать с нами, просто завис. Мы поехали этапом опять же на аэродром. Мы попали в Тульскую область, в город Донской, ИК-1, там я прожил еще восемь месяцев. Уже было два – и еще восемь.
Когда я вышел, мне показалось, что я провел там вечность, а сейчас люди там остаются уже 2 с половиной года, и я не представляю, какими они могут вернуться оттуда.
Там тоже была приемка, но первое время все показалось не сильно жестким, однако потом…
Потом нас сначала перестали кормить, а позже начали еще и бить. Сломанные ребра были у всех, кто оттуда вышел, кто вернулся домой, у меня в том числе.
Эта жуткая смесь голода и избиений… Не кормили специально. Я как-то раз насчитал, по-моему, 33 крупинки гречневой каши, 50 граммов чая, а сахара и соли не было вообще.
Даже те, кто как-то держались, все стали просто скелетами. Мало того, охранникам доставляло удовольствие бить по позвонкам, когда хребет становился как у рыбы.
Может быть, им запретили применять спецсредства, хотя мне несколько раз доставалось ПМРом, дубинкой, болезненная такая штука, потом долго отходишь. И они водопроводные трубы забивали песком. Как понял? Потому что у одного человека там скотчем перемотанный кусок трубы отломался, остался на спине. Получается неглубокий, непроникающий удар, но жгучий.
Нас избивали на прогулке в основном. Всех выгоняли в коридор, один стоял, бил каждого. Бить 200 человек и не устать... Там было пять двориков, из дворика дергали того, кто не понравился, могли вывести, опять поставить, побить. И так постоянно и в любой момент. Эта суета с постоянным избиением им доставляла искренне удовольствие.
Украинцам там было выделено отдельное здание, находящееся в отдельном периметре, достаточно большая зона, которая не соприкасалась с общей. Но когда всех били, стоял такой крик, что на той зоне не могли не слышать, это был ор.
И я помню: стою согнутый, у меня дрожат ноги. У всех дрожали, какой бы ты ни был сильный, ты, измучен голодом, вдобавок они ввели подъем среди ночи два раза, в самую активную фазу сна, чтобы человек не восстанавливался. Решетки были забиты, день и ночь не видно, постоянно горит свет, ты не получаешь ни солнца, не имеешь представления о времени, у тебя все сбивается: малейшая травма, царапина – и ты начинаешь гнить.
С нами были двое, у которых гнили ноги. У человека не помещалась нога в штанину. Такой человек остался в плену. Когда я вернулся, я разговаривал со своим другом врачом, и он сказал, что шансов выбраться живым или с хотя бы с ногами очень мало. Были где-то сантиметр в глубину, величиной с пачку сигарет, на обеих ногах огромные язвы, и по ним течет гной.
Для оказания помощи тебе надо было подняться на второй этаж, по дороге туда тебя для профилактики избивали, и обратно, когда спускался вниз, тоже били. Саше настолько некуда было деваться, что ему оставалось только идти. Там ему мазали раны это чем-то оранжевым, все покрывалось коркой, а через две, три недели начиналось все заново, постоянно опухали лимфоузлы… Короче, жуть.
С утра до вечера мы стояли, нас поднимали ночью, в активную фазу сна, где-то около 12. Часов не было, ориентировались примерно, и в 4 утра где-то. Я помню это состояние, в котором ты не осознаешь, что снилось, не снилось, целый день потом стоишь гимн поешь. В Донском мы не пели внутри помещения, но много приседали. Этот УФСИНовец, который любил поиздеваться, как-то раз вроде 2700 приседаний насчитал за день.
Присядьте 100 раз, попробуйте, 2700 – это более чем для замученного человека. Ты не получаешь калории, у кого-то больные ноги, ты все время на ногах.
Были разные истории, моя переплетается немножко с батальоном морской пехоты, который сдался в Мариуполе, часть батальона погибла, часть сдалась в плен, часть была с нами или где-то еще. Их привезли в Еленовку, когда я там был, их били очень сильно, жестоко избивали. Они же частично оказались с нами, им там тоже уделяли особое внимание. Тем, кто были в Мариуполе очень тяжело, их не отдают на обмен, их мучают, дают срока, которые в этих условиях пожизненные. 10 лет, 25 лет – понятно, что это все, человек не выйдет оттуда. Азовцы оказались и в «Черном дельфине». Это все террор одного гопсударства против другого.
Логика террора очень простая: «Вы п…сы, и на этом вопрос закрыт». То есть то, что «мы п…сы», мы должны были кричать. Мы должны были кричать и «Зеленский – п…рас!», «Столтенберг – п…рас!»
Это всегда вызывало смех при обсуждении. Мне тоже это все смешно, потому что если первое и второе просто выговорить, то «Столтенберг» и как привязать это к той московитской глубинке, было непонятно. Может, у них было распоряжение сверху, им спускали с Главного управления, что кричать. Потому что для обычного вертухая это было сложно. У них там уровень мышления… ну, я не знаю, они кричалки из «Губки Боба» заставляли кричать, то есть настолько примитивизм какой-то.
Но, тем не менее, там погибло четыре или пять человек, четыре фамилии мы знаем точно. В Курске один гражданский, в этом Донском четыре или пять. Это морская пехота, разведчики. Их просто забили, или у людей обострились болезни. Их тела отдали на обмен. Тело одного подбросили на линию разграничения. Когда происходит обмен, сначала, как правило, идет обмен телами погибших, а потом уже военнопленными. Мы их фамилию слышали, они были живы. То есть даже, по-моему, Красный Крест подтвердил, что они в плену. А родителям отдали тела.
После плена я весил 55 килограмм. Перед обменом, где-то осенью, нас начали кормить, чтобы мы соответствовали тюремной норме. Все лето 22 года — это избиения, истязания, недосып, постоянный прессинг. А осенью что-то поменялось. Украина провела харьковскую операцию, много московитов попало в плен: видимо, поступило указание. Потому что, может, такая хитрая штука срабатывает, что человек помнит последнее впечатление. Если напоследок тебя не били и кормили, то уже как-то сказать, что тебя били, сложнее. Но люди очень разные. Многие, когда возвращаются, вообще не могут ничего рассказать. Им морально тяжело. Так работает психика. Я уже фамилии не помню. Сразу через месяца три они у меня улетучились из памяти. Потому что человек не может жить негативными переживаниями, это как блок. И тем более рассказать что-то и рассказать в подробностях люди просто не могут.
И еще хочу рассказать о карцере. Попасть в карцер, где-то засветиться – это катастрофа. Я понимал, что там, скорее всего не выживу. Если в той камере, где нас содержали, было достаточно много людей, и я нашел мертвую зону от камер, и второй раз повезло, меня туда первым забросили и я выбрал место интуитивно подальше. Потом мне уже сказали, что это место козырное, где, благодаря мертвой зоне, я мог лечь на пол и, как рассказывал, выключиться на минутку, перезагрузиться. Возможно, это как-то немного спасло мою психику, потому что тяжело в условиях голода, когда все не одинаково стойки и люди начинают говорить о только о еде. В сжатом пространстве, 14 вешалок, а нас 24 – ты никуда не можешь отойти и постоянно слушаешь это «татататата», кто что готовил, «татататата». В итоге ты ложишься спать, у тебя течет слюна, ты ничего с собой сделать не можешь. Голод — это то, чем Сталин покорял Украину, и то, что они продолжают применять сейчас. Избиения, это ну, как бы, понятно, издевательства. Ну, голод это… Я, честно, того человека, который был начальником и который ввел эту голодовку для пленных, не оставлю никогда в покое. Нам известно, кто это, где он. Разве что он только пол сменит и куда-то там в Таиланд жить уедет. Я его никогда не оставлю, потому это мое личное. И те люди, которые нас пытали, издевались – это тоже личное. И это будет продолжаться, пока они не понесут наказание.
Добавлю о капитане Нацгвардии Украины, который был со мной в плену, молодом парне лет 30, Ему трое суток не давали спать, он все время стоял на ногах, его били и в итоге заставили признаться, что он на блокпосту в Луганской области изнасиловал, а потом убил женщину.
Он там в полубессознательном состоянии вырубался, его опять поднимали, били, он опять выключался. Под утро он начал кричать: «Я все подпишу, не трогайте меня». Приехал следователь, тоже молодой какой-то хлопец. Я слышал их разговор:
– Я хочу сказать, что Нацгвардия это не нацисты, это МВД.
– Да похер, не играет никакой роли.
Этот факт меня просто потряс. То, что Нацгвардия со словом «нацизм» не имеет, кроме первых трех букв, ничего общего, этому следователю было все равно. Вот так происходит следствие, вот так шьются дела. И когда показывают измордованных, замученных пленных, которые там что-то рассказывают, что мы пришли сюда убивать гражданских… Да через месяц любой человек там будет говорить то, что ему скажут. Это просто настолько низко и подло, и это работает на ту публику, которая и так жаждет крови, которая хочет атомную бомбу сбросить на Киев. Это только для них.
Все остальные не понимают, не воспринимают это. И вот только вот в этом электорате оно все варится и идет дальше.
И напоследок хотел еще вспомнить. Нам давали писать письма, но я сказал, что писать ничего не буду. Я вообще старался с ними меньше разговаривать, контакты свести к минимуму. Меня и так били достаточно. Для меня это были враги, палачи. Я понимал, что, возможно, вообще оттуда не выйду. И вот это издевательство, написание писем. Когда я вернулся домой, узнал, что эти письма никому не попали. То есть может быть, сейчас там и дают даже звонить кому-то. Я не знаю, чего стоят людям эти звонки. Но письма не попали никому. Зато они попали охранникам. Вот они там, распевая бутылку водки на коридоре, это все читали.
Там были написаны такие сентиментальные вещи, они читали ночью, все было слышно. «Воспитывай детей без меня, я скорее всего, отсюда не вернусь» – и стоял дикий смех. Просто рыгот такой.
Что тут смешного, я не знаю. С моей истории очень сильно смеялись. То есть эта история, что я поехал в Мариуполь и не доехал, и вот это «не доехал». «Так ты доехал? Нет», – и все, взрыв смеха. Я не знаю, в чем тут юмор, для меня это, люди патологические.
Я просто хочу сказать, что мы их нашли. Не всех, конечно, но какую-то часть. То есть если украинский дрон залетает в Москве в небоскр
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]