Мальчики Беларуси
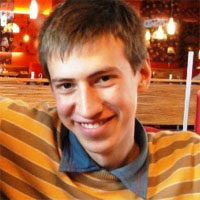
Это поколение уже не позволит решать за них, куда им ходить и что им подписывать.
Перечисляя все взыскания, вплоть до уголовного, они называют действия властей забавными, столько в них глупостей, пишет «Новая Газета».
Быть человеком
«Во всем есть начало и есть конец. Вот и природа утверждает это в унисон со мной. Сегодня первый весенний день. За время пребывания в СИЗО я научился жить на одном квадратном метре площади, применяться к соседям… Я знаю точно, что не изменилось во мне: представление о том, что происходит в стране» — из письма на волю Федора Мирзоянова.
«Чистый ботаник. Книжный мальчик» — так говорят о Федоре.
Его мама — профессор Южно-Сахалинского университета — отмечает как главную страсть своего сына увлечение чтением с раннего детства.
Со временем любимым автором стал Лев Гумилев. Федора интересовала эволюция этноса: от рождения до смерти. Настольными стали книги «Конец и вновь начало», «Чтобы свеча не погасла».
Он родился за год до распада великой страны. Когда пришла пора получать паспорт и заполнять графу «Национальность», решительно объявил родителям: «Я — белорус» (мать — белоруска, отец — татарин).
Гимназист Федор был активным участником олимпиадного движения: городского, областного, республиканского.
Особое место в предпочтениях занимала история. Однако, как замечает мама Феди, после изучения книги Е. Габовича «История под знаком вопросительного знака» думал о том, что такое фальсификация в истории, какова природа ошибок в трактовке событий прошлого.
Выбор профессии был определен в десятом классе. Решающую роль сыграло знакомство с книгой, которую подарил отец, — «Экономический образ мышления» Пола Хейне. Идеи книги породили вопросы, которые и привели Федора к активной гражданской жизни.
В самом деле, каковы причины разделения людей на бедных и богатых? Каково соотношение роли государства и свободного рынка в экономике?
С высоким проходным баллом поступил на факультет менеджмента Белорусского университета. Специальность — «Экономическая кибернетика».
Увлекся идеями новоавстрийской экономической школы Людвига фон Мизеса.
Это привело его в стан сторонников кандидата в президенты Ярослава Романчука, поборника либеральных реформ.
Меня интересовало, нельзя ли заниматься тем же самым, минуя митинговые страсти?
— Нет! — говорит Федор. — Экономическое развитие тормозится политической волей верхов. Однажды я подсчитал количество кандидатов и докторов экономических наук в нашем университете и задумался: а почему в стране ничего не происходит? Невооруженным глазом было видно, как надвигался наш экономический кризис. И что делает академическая наука? Да ничего.
К 19 декабря обстановка накалилась.
— Мы действительно шли к зданию Центральной избирательной комиссии.
Федор захватил термос с чаем и плитку шоколада. Теперь у него на шоколад аллергия.
Вместе с ним был друг Илья, про которого я ровным счетом ничего не знала.
Федор видел, как вырывали лозунги у вполне мирных людей, как демонстрировал силу спецназ. Как сотнями загоняли людей в автозаки.
Федор потерял мобильник. Это уже была улика. Само пребывание на площади суд признал неконституционным вопреки 35-й статье белорусской конституции. А дальше — приемник-распределитель, Жодинский изолятор временного содержания. Жесточайшая тюрьма.
Его суд длился пять минут — так решалась судьба человека.
Федор не любит, когда его спрашивают про пытки, избиения.
— Ну по задней части дали несколько раз. Просто так…
Его осудили 20 декабря на 15 суток. Дело рассматривала судья Е.Т. Некрасова.
Опрос Мирзоянова состоялся 19 декабря. Опрос свидетеля — 20 декабря. Никто никого в глаза не видел. Федор тщательнейшим образом записывает все детали расправы. С непременным указанием фамилий и должностного статуса гонителей. Мы с вами узнаем не только про судью Некрасову и свидетеля Кулагу, но и про начальника следственного управления предварительного расследования ГУВД Геннадия Казакевича. Федор запишет все перлы дознавателя: и про Запад, который «спонсирует отморозков», и предложение пойти на сделку со следствием. «На сделку с совестью», — уточняет Федор.
Так вот: польский поэт и философ Чеслав Милош считал, что особенностью исторических процессов XX века является анонимность зла, что подтверждает история нашего ГУЛАГа.
Федор уверен: задача заключается в том, чтобы преодолеть анонимность и поименно зафиксировать всех персонажей зла.
Они должны знать: время ответа придет. Неизбежно.
Это единственное условие — избежать дурной бесконечности в истории.
Про тюрьму КГБ не говорит. 22 человека на 13 мест. Этим сказано всё.
Приговор — 3 года усиленного режима.
За что? За любовь к стране. За мысль, не остановимую ничем и никогда. За единство с народом, который не будет молчать.
…Он выйдет из «Волчьих нор» (колония усиленного режима) 14 сентября 2011 года.
Я спросила, на какие силы опирался в застенке?
«На доверие людей», — сказал Федор.Знал, что сразу после его ареста студенты провели собрание и потребовали изменить меру пресечения своему товарищу, выпустить из-под стражи. Верил, что его любимого кота, которого он подобрал на дороге и вылечил от всех болезней, друзья не бросят.
— Ну и где ваш Пушистик? — спрашиваю я.
— На днях ушел из дома. У кошек такое бывает. Он вернется.
Я спросила, какое событие лагерной жизни было наиболее тягостным.
Не задумываясь, он сказал отчетливо ясно:
— Ничего нет страшнее, когда тебя обступают так называемые «смотрящие» зэки. Они превосходят тебя в физическом отношении. Но страшно не это. Морально подавить тебя — вот их задача…
Начинаются странные разговоры о благоденствии на уровне: «Вы тут выступаете, а Лукашенко дает пенсию моей бабке в деревне». По этой логике получается: чем выше твоя гражданская позиция, тем сильнее она ударяет по народу.
…Следовало бы сделать отступление на народную тему.
Годами бродя со студентами по деревне, слушая бесконечные рассказы о жизни, мы обратили внимание на то, как в сознании одного человека мирно уживались прямо противоположные убеждения. «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе» — так полагал Пушкин. Оказывается, могут. Еще как!
Вот старуха рассказывает о работе своего мужа: «Был уполномоченным по хлебу и земле. Родине и людям служил. Народу подмочь устремлялся».
Проходит время, и эта же старуха, расставаясь с нами, выдает нечто прямо противоположное: «Да что это за работа была?! Приедет, ребенка сгородит, и опять по деревням — отнимать хлеб у чужого дитя. Горе горькое мне и людям от такого мужика!»
Типичная история для сознания среднего белоруса. «Народ трогать нельзя. Батька Родину не продаст. Его не будет, москвичи всё скупят». И тут же: «Вы на тракторном заводе были? Видели, в каких условиях рабочие работают? Зимой ладонь к металлу пристает! И какое мне дело, кому будет принадлежать завод?! Лишь бы рабочему человеку было хорошо».
Таковы пласты сознания. Первый соткан из идеологических клише. Его выдают без боязни. Как некую общую правду. Второй, потаенный пласт, затрагивает глубинные, сущностные пласты личности. Он вырывается на свет неожиданно. Всегда эмоционально окрашен, но не подлежит всенародной огласке. Это мысли про себя.
Поразительно, что эти два пласта сознания соседствуют параллельно. Не сходясь, не вызывая внутренних противоречий у носителя такого сознания.
Упрек, брошенный Мирзоянову, запал в душу, но не изменил представления Федора о том, что происходит в стране.
…Восстановиться в университете Мирзоянов может только на платной основе.
Когда-то гениальный учитель Александр Тубельский, безупречный во всех отношениях, задавал вопрос вопросов:
— Как я, частный, погрязший в жизненных компромиссах человек, могу (или имею право) воспитать свободного человека? Скажи, есть у меня такое право? — спрашивал он, зная, что это и мой вопрос.
Понять аморальность власти несложно. Но как понять учителя, профессора, предающего своего ученика?
Федор не склонен осуждать выбор других. Не осуждает и того, за кем пошел на выборы. Требовать героического поведения — удел обывателя.
Когда мы решали разные проблемные ситуации и Федор оказывался в позиции выбораненадлежащего средства, я всегда слышала одно и то же:
— Это был бы не я.
В иерархии ценностей Мирзоянова центральное место занимает личная ответственность за подлинность модуса: «Я в этом мире». «Я» и «мир» здесь представлены в ответственной зависимости.
О друге Федора. Об Илье
…Проходя в комнату Федора, заметила совсем молодого человека. Он сидел на кухне и, как оказалось, кого-то ждал. Пришел отец и принес снедь. В глазах отца почудилась мне тревога.
Несколько раз во время наших бесед с Федором молодой человек, казавшийся подростком, включался в разговор. Его речь была лаконичной. По точности обобщения напоминала афоризмы.
Зашел разговор о споре в следственной камере Бутырской тюрьмы, о котором поведал Шаламов в одном из своих рассказов. Сидельцы пытались понять, что движет волей таких людей, как Джордано Бруно? Что ведет человека на костер? Шаламов считал, что на дне души обязательно должен быть какой-то нравственный стимул, какой-то мираж добра…
— Почему мираж? — резко спросил Илья. — Совсем не мираж. И не на дне души.
Что мог знать этот мальчик о том состоянии, когда добро или выносится за скобки, или превращается в мираж…
…Мы уже прощались в коридоре, когда вдруг выяснилось, что Илья тоже сидел. Сполна. Как взрослые. Сердце мое сжалось. Я что-то пролепетала про тюремный опыт, но Илья прервал меня:
— Мы вышли, а они остались. За нас было кому заступиться, а за них…
Он говорил не о товарищах по декабрьской судьбе. Он говорил о других, кто осужден неправедным судом. Он их знал и помнил. Почти мальчик, он произнес речь, которая напомнила мне слова нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского о крестьянине, сосланном за колоски. Вот за ним не стоит никто: ни международная амнистия, ни поддержка творческих союзов. Вот где драма не одного человека. Вот что опасно для нации, считал поэт.
О человеческой солидарности говорил мальчик, и это были не только слова. Это говорил опыт сидельца. Он заплатил за них надломленной судьбой, тревогой отца. И еще чем-то не менее важным, о чем нам с вами не догадаться вовек.
Попав в напряженное нравственное поле, я рискнула прочесть фрагмент письма Бориса Пастернака Варламу Шаламову. Письмо жестокое и несправедливое. Так мне казалось всегда.
«Не утешайтесь неправотой времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не согласясь с ней, тем уже и быть человеком…»
— Очень полезная мысль, — неожиданно быстро говорит Федя.
— Что же может здесь быть полезного? — обескураженно спрашиваю я.
— Здесь самое главное сосредоточено в слове «недостаточно». Так вот: нашей правоты недостаточно, чтобы быть человеком. Ценное предупреждение об опасности высокомерия.
— Гордиться здесь нечем, — сказал он на прощание, и я не совсем поняла, что он имел в виду.
Теперь я знаю, что Федор Мирзоянов и есть тот белорусский мальчик, который лично отвечает за себя и свою страну.
В такой ответственности места гордыни нет.
Послесловие
И вспомнились мои первые мальчики, выпуска 1956 года, в деревне без света и радио. Теперь я уже определенно знаю, это были лучшие мальчики в моей учительской судьбе. Чистые и благородные. Горькая мысль, что я по молодости не всё сделала для них, что могла и обязана была сделать, саднит душу и по сей день. У них не было паспортов, и любой выезд из деревни требовал каких-то дурацких справок. Кому-то удавалось окончить вуз, а Володя Глазатов стал директором нашей школы. Они рано уходили из жизни. Что было тому причиной, не знаю не ведаю. Полуголодное ли военное и послевоенное детство? Мытарства ли с попыткой вырваться из деревни, где им светила всего-навсего палочка-трудодень? Из того моего первого класса в живых не осталось ни одного мальчика.
Потом судьба свела с мальчиками из математических классов. 50—60-е годы были связаны с книжным бумом и искренней верой в то, что слово и есть дело. Они решали неразрешимую задачу: как словом измерить действительность, и никак не могли понять, «отчего в жизни ничего не случилось, если написана «Война и мир» (Коля Решетников).
В поздние 70-е мальчики уже поняли, что слово не охватывает ту тягучую действительность, в которой они пребывают. И чаще всего внеположено ей. И тогда им пришла идея свершить суд над учительницей, которая словом вводила их в заблуждение. Более того, они провели «исследование». Оказалось, что доверившиеся слову — в жизни не преуспели. А не поддавшиеся соблазнам слова — сделали большую карьеру. Я узнала о суде, когда устроителями эта идея была отвергнута.
— Не хотелось подвергать суду то, что, может быть, было лучшим в нашей жизни, — сказал «обвинитель» Коля Сваровский.
Под «лучшим» разумелись книги.
С перестройкой конца 80-х вошло поколение мальчиков, уже не знавших страха. Когда их допрашивали в кабинетах новосибирской Лубянки по дурно сляпанному делу, они кожей своей ощутили то, о чем раньше только читали у Солженицына и Шаламова. Им стало страшно. Но остановить их уже никто не мог. Родители на свой страх и риск спасали детей, увозя за границу на жительство или учебу.
Я запомнила их последнюю встречу в моем доме — они признавались друг другу в любви, зная, что, возможно, никогда не увидятся. Только тогда я поняла, почему они так любили «Маленькую печальную повесть» Виктора Некрасова. Книгу — о другом поколении, беспощадно разобщенном.
В щадящем варианте эти мальчики повторили их судьбу. Кто-то из них постигает Божественное и Вечное за пределами страны. А один даже пишет диссертацию о человечности Бога (Кирилл Войцель). Другие — просто избежали участи быть избитыми майором Тараскиным на митингах в родном городе Новосибирске (как Миша Юданин). Майор был специалистом отбивать почки митингующим. Из той компании мальчиков в родной стране остался только один — Миша Моисеев.
В конце 90-х многие из тех, кто был способен, как сказал бы философ, реализовать не только акт понимания, но и акты доблести и чести, покидали родину. Они искали достойный удел — заниматься делом, которому учились и к которому было призвание. Кто-то работает на коллайдере, кто-то в физических и биологических лабораториях других стран. Иногда извещают меня, что сын или дочка защитили диплом по «Братьям Карамазовым» или драматургии Чехова — и это нередко оказывается единственной связью со страной, в которой они должны были бы стать успешными. Но у страны были другие приоритеты. Другое представление об успехе.
Встретившись с мальчиками Беларуси, я впервые задумалась: как случилось, что лучшие и достойнейшие не реализовались в своей стране и не произнесли этих слов: «Мама, я не могу покинуть Родину в трудные времена»?
И если уж бросать камень в чей-то огород, то уж, конечно, не в мальчиков, а в нас.
В чем же наша вина? Мы не защитили их? Или точнее — предали? Сами поддались на дешевые соблазны? Или трусостью своей дали дорогу Молоху-баблу, перед которым совесть и честь — мелкие орешки. Справиться с ними — пара пустяков.
Но и смириться нельзя, когда видишь мальчиков в рядах «нашистов», одержимых омерзительной мотивацией, — встать на лапы перед властью.
Что сделали мы не так… Что?..
Мальчики… Мальчики…
 30.01.2025
Власти Лос-Анджелеса предупредили звезд о наличии в городе «токсичной бомбы замедленного действия»
30.01.2025
Власти Лос-Анджелеса предупредили звезд о наличии в городе «токсичной бомбы замедленного действия»
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]















